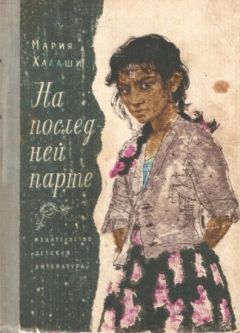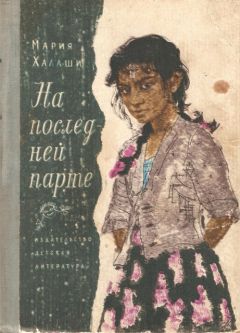Ирмгард Койн - Девочка, с которой детям не разрешали водиться
После обеда мама позвала меня к себе в комнату, По ее голосу я сразу же поняла, что случилось что-то неприятное. Но случилось не неприятное, а ужасное: на нашем диване сидела дама из музея. Боже мой, зачем я рассказала симпатичному служителю, где я живу и как меня зовут? Мне стало так плохо, что даже затошнило. Ноги у меня подкосились, а мама спросила: «Эта дама говорит, что она видела тебя вчера и сегодня в музее. Как ты попала туда одна, да еще утром?» Я хотела ответить, что это была вовсе не я, но вдруг лишилась сил. И ничего не сказала. Мама спросила, есть ли у меня рисунки, дама хочет их посмотреть, и тут же рассказала ей, что до сих пор я рисовала только уродливых человечков на светлых обоях в спальне, да и то из озорства, и что по рисованию у меня всегда двойка. Я молчала. Тут дама вздохнула: «Бедное дитя!» — и сказала, что зарывать и губить талант — преступление. Мама рассердилась, а дама крикнула, что она уйдет, но еще вернется.
Зачем я только сказала маме, что пойти в музей мне приказала наша учительница фрейлейн Шней? Взрослые всегда вмешиваются в дела детей, и, конечно, она позвонила вечером Шней, прежде чем я успела испортить телефон, — я бы и это сделала, ведь теперь мне уже все было безразлично. Мама начала говорить с фрейлейн Шней, и голос ее отдавался у меня в животе, так что мне даже больно стало. Мама сказала, что она очень расстроена тем, что детей посылают одних в музей, это просто возмутительно. «Что вы сказали? Вы никого в музей не посылали? Да, но…»
Меня спрашивали, допрашивали, расспрашивали. Как взрослым не стыдно так мучить ребенка! Звонили то от нас, то к нам, отцу Элли и матери Гретхен, и постепенно все выяснилось. Всю ночь я не могла заснуть. Я думала о мумии и о страшном суде, и о том, что я все же, может быть, вундеркинд, как говорила англичанка, и что меня никто не понимает. Мне пришло в голову, что если я очень сильно захочу, то смогу, пожалуй, сейчас же умереть, не дожив до завтрашнего дня, и избавиться от предстоящих мучений.
Мы сидели в комнате директрисы и ревели. Пришла мать Гретхен, моя мама и толстый господин Пукбаум. Он все время смеялся и делал испуганное лицо, когда мамы возмущенно оглядывались на него.
Потом пришли директриса и фрейлейн Шней. Они сейчас же, с притворной улыбкой, подошли к нашим родителям, а на нас, детей, сначала не обратили никакого внимания.
Мы чувствовали себя ужасно. «Может быть, детей слишком длительное время предоставляли самим себе, вы ведь совершали далекие путешествия, сударыня?» — спросила фрейлейн Шней. «В каникулы я с детьми была в Эйфеле», — ответила моя мама. Мне казалось, что все слышат, как стучит мое сердце. «Надеюсь, вы довольны результатами вашей экспедиции, господин Пукбаум?» — сладким голосом спросила директриса. «Что же, это можно назвать и экспедицией», — сказал господин Пукбаум. Он часто бывает в отъезде, потому что торгует вином. Но противная директриса не переставала допытываться: «Вам приходилось вступать в бой с дикарями?» Господин Пукбаум стукнул кулаком по столу: «Вы совершенно правы, они действительно дикари, настоящие дикари!» С каждой минутой наше положение становилось все хуже и хуже. Элли начала громко плакать. «Вы собрали ценный научный материал, господин Пукбаум?» — «Э, нет, — сказал господин Пукбаум, — этого я бы не сказал. Всего лишь парочку жалких заказов. В Хунсрюкке все предпочитают пить пиво».
В конце концов выяснилось решительно все. Мы плакали, наши матери тоже плакали. Господин Пукбаум заявил, что он не в силах больше смотреть на наши слезы, попросил у дам разрешения принести им по рюмочке коньяку и сказал, что мы искренне раскаиваемся и нас следовало бы простить.
Все называли нас погибшими созданиями, которых необходимо отдать в исправительный дом, так как нам понадобится немало лет для того, чтобы искупить свою вину, и добавили, что подстрекательницей была я и что они еще придумают для меня особое наказание, а пока что нам следует отправиться обратно в класс.
Нам больше не хотелось жить, и вполне возможно, что мы бы умерли с горя. Никто не разговаривал с нами, а пойти домой мы боялись. Но когда закончились уроки, за нами зашел господин Пукбаум. Он сказал: «Так, так, дети, плохи ваши дела. Если ты, Элли, еще раз пошлешь меня к индейцам в Южную Америку, то тебе несдобровать, я расправлюсь с тобой, как индеец. А если вы сейчас же не перестанете реветь, то вам всем тоже не поздоровится. Пойдем лучше в кондитерскую, выпьем по чашечке какао. У вас вид как у мертвецов». Каждой из нас он купил по пять кусков торта с кремом, который нам был крайне необходим, чтобы подкрепить свои силы. Постепенно мы пришли в себя. Господин Пукбаум сказал, что в воспитательных целях хочет дать нам несколько полезных советов. По его мнению, виной всему мое посещение музея и встреча со старой болтуньей, принявшей меня за вундеркинда. Лично он считает, что старинная рейнская песня — это вещь, а все остальное искусство таит в себе большие опасности, и поэтому нам лучше обходить его стороной. Господин Пукбаум сказал, что знаком со многими людьми, которые стали нищими из-за того, что увлекались искусством. Сегодня мы на своем опыте могли в этом убедиться. А посему этот день должен послужить нам уроком.
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
Вечером мама зашла ко мне в комнату и спросила: «Что это ты делаешь?» — «Как, что я делаю? — ответила я. — Я ничего не делаю». Я до смерти перепугалась и сейчас же спрятала под одеяло ноги и французский словарь. Дело в том, что я плевала на этот словарь, чтобы покрасить ногти на ногах в красный цвет. Словарь — в красном переплете, и переплет этот линяет. А мне хочется быть такой же красивой и модной, как Рена Дункель, потому что я сейчас влюблена. Рена Дункель тоже часто красит ногти на руках и на ногах. Я очень страдаю. Случается, что люди умирают от любви, — будет просто чудом, если у меня все кончится благополучно.
Я считаю, что всегда нужно быть в полной форме, подобно древним восточным принцессам, в которых так часто страстно влюблялись. У Рены Дункель есть романы, в которых это описано. Завтра днем я хочу пойти к Тэо Самандеру, чтобы сказать ему, что я никогда в жизни не выйду замуж ни за кого другого, кроме него, потому что люблю его. Я ужасно боюсь, сердце у меня все время бьется как сумасшедшее. Вот уже три недели, как я собираюсь пойти к нему, но завтра пойду обязательно. Я должна это сделать, потому что поклялась Рене и Элли Пукбаум, моей лучшей подруге, что завтра совершу самый большой подвиг в своей жизни. Я им не сказала, что именно я сделаю. Но теперь они ждут большого подвига, и я должна во что бы то ни стало сдержать клятву. Для того чтобы не отступить в последний момент, я подкрепила эту клятву ужасными условиями. Вечером, лежа в кровати, я сказала, что, если завтра не пойду к Тэо Самандеру, у меня выпадет глаз и мама перестанет меня любить, а папа обнаружит, что я тайком продала альбом с марками, которые он собирал, когда был старшеклассником. Продала я его альбом потому, что мне очень хотелось купить себе чулки-паутинки, такие, как у Гретхен Кац и у Элли Пукбаум, а тетя Милли мне всегда покупает толстые чулки в резинку.
Я дала эту страшную клятву и потому пойду завтра к Тэо Самандеру. Хотя, по правде сказать, я с большим удовольствием любила бы его на расстоянии.
Мне исполнилось тринадцать лет, и поэтому глупо и преступно обращаться со мной, как с ребенком. Выйти замуж я смогу только через три года. Ждать еще долго, но и это время когда-нибудь наступит. Мы будем ждать с Тэо Самандером.
Я много читала в книгах и пьесах о любви и знаю, что любовь — это когда крепко обнимают друг друга, Я так и сделаю, когда пойду к Тэо. Кроме того, иногда осыпают друг друга горячими поцелуями, это мне не очень нравится. На рождество мне всегда приходится целовать всех приглашенных родственников, а они целуют меня. После этого мое лицо становится противным и мокрым, и я убегаю из комнаты, чтобы побыстрее вытереться. Взрослые думают, что я расчувствовалась, да я и правда растрогана, но все-таки тайком вытираю лицо. Тэо Самандера мне было бы куда приятнее любить страстно, но без жгучих поцелуев.
И еще мне хотелось бы умереть за него или принести ему большую жертву. Больше всего мне хотелось бы спасти ему жизнь. Например, вытащить его из горящего дома. Он уже в безопасности, а на мою голову падает балка, я теряю сознание, все с плачем окружают меня и опускаются передо мной на колени. Иногда, лежа вечером в кровати, я представляю себе все это.
Когда я приду к нему, я начну плакать и расскажу, что часто бываю очень гадкой. Я мечтаю о том, как он положит руку мне на голову, прижмет к своей груди и станет утешать. Больше всего, по правде говоря, мне нравится момент, когда он меня утешает. Когда я об этом думаю, мне хочется плакать. «Тот, кто так плачет и так несчастен, как ты, — благородный человек», — скажет он и будет потрясен до глубины души. Он захочет меня успокоить, но я не успокоюсь, потому что я никогда не могу себе представить, что произойдет дальше. На этом, наверно, все интересное кончится.