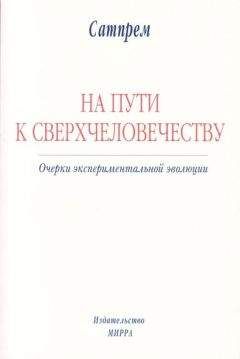Василий Авенариус - На Москву!
В воображении Курбского рисовался высокий старик с колючими глазами, но с вкрадчивой улыбкой. И что же? Навстречу ему поднялся с лавки приземистый, полный мужчина средних еще лет, сурового вида и куда невзрачный. Только богатая «турская» шуба и высокая «горлатная» шапка (из меха горла пушных зверей), которых тот так и не снял, свидетельствовали о его знатном происхождении, а в его подслеповатых, с кровяными жилками, глазах лишь изредка, как бы невзначай, вспыхивал скрытый огонек, выдававший сильный ум, сильную энергию.
Чуть-чуть кивнув головой в ответ на вежливый поклон Курбского, Шуйский прямо заявил, что прислан он от всемилостивейшего государя своего, чтобы принять грамоту того человека, что облыжно именует себя царевичем Димитрием.
Курбскому стоило немалого самообладания, чтобы ответить с должной сдержанностью:
— Не взыщи, боярин, но такова воля царевича Димитрия Ивановича, чтобы грамоту его я передал из рук в руки самому царю Борису Федоровичу.
— То воля твоего царевича, но воля моего царя иная, а у нас на Москве никакой иной воли, помимо царской, не положено.
— Для подданных царя Бориса, точно; но для полномочных послов еще выше воля их монархов.
— Хотя бы таковой монарх и был из беглых монахов?
Но едва лишь Шуйский произнес это, как весь съежился и помертвел, потому что стоявший передним молодой исполин, превышавший его двумя головами, прикрикнул на него громовым голосом:
— Ой, берегись, боярин! Сдержи свой дерзкий язык! Коли не ты, так царь твой Борис хорошо знает, что мой царевич — не беглый монах, а истинный сын царя Ивана Васильевича, спасенный Всеблагим Промыслом от наемных убийц. Это столь же верно, как и то, что я — князь Курбский, сын первого сподвижника его родителя. И горе тебе, боярин, когда царевич мой воссядет на прародительский престол! А раньше ли, позже ли это, верь мне, совершится, и сам ты тогда, как червь, приползешь к его стопам.
Опытный царедворец успел уже оправиться и, не возвышая голоса, отвечал холодно и с достоинством:
— Что ты сын Андрея Михайловича Курбского — я охотно тебе верю. Некогда я не токмо знал его, но и дружил с ним, пока он не пошел своей дорогой, и в память этой-то дружбы, а также ради твоей юности, — прости тебя Бог. Твоих горячих слов я словно бы и не слышал. Так что же, грамоты к царю Борису Федоровичу ты мне так и не отдашь?
— Не могу отдать, боярин, прости, хоть бы и рад был.
— Твое дело. А допустит ли еще государь тебя до своих очей — зело сумнительно. И придется тебе, чего доброго, отъехать вспять ни с чем.
— Не допустит до себя, так на свою же голову! — воскликнул Курбский.
— Тише, тише, князь! Ты все, поди, забываешь, что мы здесь не в Кракове у ляхов, а в первопрестольном граде русского царя. Доложу я государю о твоем отказе; что он порешит — о том тебя в свое время оповестят. А дотоле не изволь-ка выходить за порог дома.
— Но мне по собственному делу неотложно нужно!..
— Мало ли что кому нужно! Да коли таков приказ царский? Его же не перейти.
Старший Биркин, в качестве хозяина, выжидал выхода именитого посетителя в прихожей и с униженными поклонами проводил его до возка, а проводив, влетел в светлицу к Курбскому.
— Помилуй, князь, что ты с нами делаешь? Мы тебя приютили, пригрели, а ты этакому-то вельможе у нас же в доме согрубил! Из-за двери мы с братом все ведь слышали.
— Да, милый князь, не ждали мы от тебя, не ждали! — поддержал вошедший вслед за братом Степан Маркович. — Теперича нас, того и гляди, спровадят из Москвы куда Макар телят не гонял.
— А добро наше в казну отберут, — подхватил опять Иван Маркович, и напустился вдруг на младшего брата. — А все ты, брат Степан, все ты: «породнимся, мол, с родовитым князем, — самих нас за собой в дворянство вытянет». Вот тебе и породнились! Вот тебе и дворянство!
Разгоряченного крупным разговором с царским посланцем Курбского как холодной водой окатило. Оба дяди Маруси, очевидно, оказывали ему до сих пор такое расположение не столько даже из-за своей племянницы, сколько из-за своих личных, честолюбивых расчетов. Но, ради Маруси, он готов был все это забыть.
— Мне самому крайне прискорбно, что через меня тебе, Иван Маркыч, столько беспокойства, — сказал он. — Но не тревожь себя попусту. И тебя и Степана Маркыча я во всем обелю. Шуйский — человек большого ума и должен понять, что с царевичем моим не шутки шутить. Не нынче, так завтра, помяни мое слово, он опять пожалует звать меня прямо во дворец.
Говорил это Курбский так уверенно, что оба Биркина снова приободрились. Когда он тут еще заявил, что, как только ему будет дозволено выйти за ворота, он первым делом поищет себе другого пристанища, радушного вообще хозяина как будто и совесть зазрела.
— Ну, что ж, поживешь у нас еще день другой — не беда, — сказал он. — Семь бед — один ответ.
— Да и беды, даст Бог, никакой не будет, — подхватил младший брат. — А примут тебя во дворце как заправского посла, так наша взяла.
— И самому тебе, послу, будет тогда посольский почет, — добавил Иван Маркович. — Помнишь ли еще, брат Степан, как при царе Федоре Ивановиче прибыло к нам в Москву посольство из неметчины?
И оба брата принялись с одушевлением, наперерыв, вспоминать о въезде немецкого посольства: навстречу послам выехали-де за город два пристава со стрельцами и за двадцать шагов вышли из саней и сняли шапки; то же самое сделали оба посла и выслушали, с непокрытой на морозе головой, приветствия сперва одного пристава, потом другого и, наконец, царского конюшего. Этот предложил послам двух бесподобных белых коней с богатейшей сбруей, а чинам посольства двенадцать других коней; после чего все двинулись в город чинным порядком: впереди двадцать четыре конных стрельца, за ними посольские чины, по три в ряд, за этими трубачи с серебряными трубами, а за трубачами оба посла и по обе руки их — пристава. От самых городских ворот до посольского дома по всем улицам были выстроены два ряда стрельцов. А народу-то, ротозеев, видимо-невидимо… Вот почет, так почет!
Хотя розовые надежды братьев Биркиных и не оправдались, но ожидание не совсем-таки обмануло Курбского. На следующее утро за ним были присланы придворные сани; упряжные кони были рослые, в богатой сбруе, полость была пышная, медвежья, а впереди бежали два скорохода, но тем и ограничился весь почет. Звать Курбского во дворец прибыл теперь уже не боярин, а молоденький боярский сын, Андрей Васильевич Бутурлин. Выказывая такое пренебрежение к посланцу названного царевича Димитрия, Годунов не принял одного в расчет — молодости Бутурлина. Юноша невольно поддался обаянию светлой личности Курбского. Когда кони понесли их по направлению к Кремлю, Бутурлин, чтобы изгладить перед приезжим первое невыгодное впечатление от Москвы, принялся с особенным усердием выхваливать ему все достопримечательности Белокаменной. И вдруг, совершенно неожиданно, спросил его, понижая голос, чтобы кучер не расслышал:
— А что, князь, прости за спрос, ты никогда еще не видал нашего царя?
— Нет, не довелось, — отвечал Курбский, — но много об нем наслышан.
— Что же ты слышал?
— Слышал, что муж он многомудрый, радеет о державе своей, о народе.
— Вот, вот! — радостно подхватил Бутурлин. — Сколько дивного творил он для прославления Руси, сколько добра для народа!
— А все не в прок, — возразил Курбский, — народ все-таки ропщет, клянет Годунова…
— Потому что меж бояр есть у него недруги-завистники, что мутят народ.
— А чем он нажил себе этих недругов? Тем, что ко властолюбию ненасытен, сердцем черств, безжалостен…
— О, нет! Для добрых он и доселе добр; а уж в детях своих: царевиче Федоре да царевне Ксении, просто души не чает; сам обучает их, особливо царевича, всякой книжной премудрости, чтобы было на кого оставить престол свой.
— Ну, этому никогда не бывать! — прервал Курбский. — Этого Господь не попустит!
Бутурлин испуганно взглянул на него со стороны; но, встретив его открытый, честный взгляд, заметил:
— Ты, князь, я вижу, крепко любишь того, от кого прислан; а я еще крепче, может, люблю царя Бориса. О, кабы и тебе его так полюбить, утвердиться при нем!
— Об этом, Андрей Васильич, и разговору быть не может; ты поймешь, разумеется…
— Понимаю, князь, отлично понимаю, а все-таки так, право, жаль… И боюсь я за тебя!
— Да слишком уж ты прямодушен, всякому в лицо правду режешь. Как раз накличешь еще на себя немилость царскую. Козни боярские, нечего таить, ожесточили царя; чает он измену везде, даже там, где ее нет. Остерегись же, Бога ради, в речах своих, не перечь ему!
— Хорошо, хорошо, остерегусь, — улыбнулся в ответ Курбский, которого не могло не тронуть такое теплое участие к нему юноши, видевшего его первый раз в жизни.
И вот они во дворце, и рядом палат проходят в престольную палату. Несмотря на свою возбужденность при входе в эту палату, Курбский вскользь не мог не заметить ее богатого убранства: стены были затейливо расписаны, а пол устлан дорогими коврами. В глубине палаты, под образом Богоматери, сделанным мозаикой из самоцветных каменьев, на возвышении в несколько ступеней, обитом алым бархатом, восседал на троне, в порфире и мономаховом венце, со скипетром в руке, сам царь Борис. Около трона, слева, виднелись на серебряном решетчатом столике держава с крестом, а на столике поменьше — золотая умывальница с расшитым полотенцем. По сторонам трона стояли четыре (по два с каждой стороны) молодых рынд (телохранителей) в белых бархатных кафтанах с горностаевой опушкой, в высоких рысьих шапках, с нагрудными золотыми цепями и с серебряными секирами на плече. Хотя Годунову, как знал Курбский, было уже пятьдесят три года, но на вид он был еще очень бодр, сановит и красив, а торжественная обстановка придавала ему еще большую величавость и мужественную красоту.