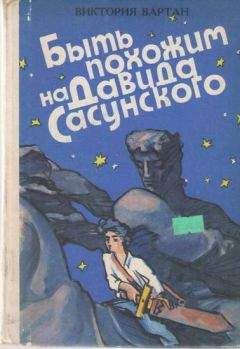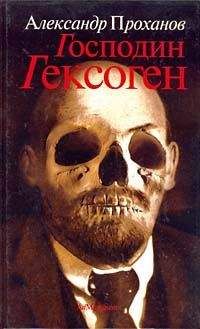Виктория Вартан - Арминэ
— И я с тобой… домой…
— Тогда тебе надо свернуть во-он туда, на ту тропинку, — сказал я мстительно: мне хотелось наказать его за недавнюю строптивость и торжество. — Твой дом ведь в той стороне села, верно? — сказал я сухо, не сбавляя шага.
Грантик ничего не ответил. Он продолжал идти за мной, но на некотором расстоянии. Спустя минут десять, когда мы уже приближались к дому Мец-майрик, я обернулся к брату:
— Уходи!
Грантик остановился, опустил с виноватым видом голову, стал смотреть себе под ноги.
— Слышишь, не иди за мной. У тебя есть свой дом, вот и иди туда.
Я знал, что он не любит расставаться со мной, хотя мы часто ссоримся. Глядя на опущенную в нерешительности голову брата, я почувствовал к нему жалость и все же, словно сопротивляясь этому чувству, спросил:
— Нет, ты скажи: есть у тебя свой дом?
— Есть…
— Есть у тебя своя бабушка?
— Есть…
— Ну так и иди к ней, — с непонятной мне самому жестокостью сказал я и, сунув руки в карманы, зашагал быстрее.
Толкнув калитку, я вошел во двор. Мец-майрик развешивала белье.
— Небось проголодался, Геворг-джан? — сказала она, вытирая руки о синий передник.
— Ага, очень.
— А где же Грантик? Почему он не с тобой?
— Он не захотел сюда, — соврал я.
Лишь тогда я почувствовал, как сильно проголодался, когда бабушка поставила передо мной полную сковородку румяной жареной картошки, посыпанной мелко нарезанной зеленью кинзы и молодого лука. Сидя в тени под деревом и от удовольствия болтая ногами, я с аппетитом уплетал вкусную картошку, забыв не только про свой недавний позор, но и про Грантика.
Случайно подняв голову, я увидел брата. Он стоял у калитки и смотрел на меня, не решаясь войти.
Большие черные глаза на худом загорелом лице казались огромными. В них стояли слезы.
— Мец-майрик! — позвал я бабушку.
Бабушка продолжала развешивать белье. Она стояла спиной к калитке и не видела Грантика.
— Чего тебе?
Я молча движением головы показал на брата.
— A-а, пришел, значит, — обрадованно сказала она. — Ну входи, входи, чего стоишь? Садись рядом с Геворгом и поешь жареной картошки.
Грантик опустил голову и не двинулся с места. Он не переставая мял в руках какую-то травинку.
— Ну что ж ты? — сказала Мец-майрик и подошла к нему. — Поссорились, что ли?
— Геворг… не хочет… говорит, иди к себе: у тебя своя бабушка есть… — срывающимся голосом проговорил он.
— Что, что? Геворг, говоришь, не хочет?
Она взяла его за подбородок, наклонилась к нему и заглянула в лицо: крупные слезы катились по его худым щекам. При взгляде на них у меня что-то кольнуло в сердце.
— Вай, ослепнуть бы мне! — с гневом напустилась на меня Мец-майрик. — Ишь, какой умник нашелся! Я и его бабушка, и твоя… Нет-нет, теперь только его, Грантика, бабушка! Идем, Грантик-джан, идем! — И, обняв брата за вздрагивающие плечи, повела под тень дерева, к столу.
Стыд, жалость к брату, досада, ревность разом нашли на меня. Картошка вдруг показалась мне безвкусной, как трава. Я перестал есть.
Мец-майрик принесла еще одну вилку — для Грантика. Потом пошла в кладовую и вынесла огромное яблоко.
— На, Грантик-джан, это тебе.
— А Геворгу?
— А он не получит ничего.
Отвернувшись, с деланным безразличием я стал чертить прутиком какие-то фигурки на чисто выметенной земле. На душе было как-то нехорошо, гадко. Кто-то мягко дотронулся до моего плеча. Я поднял голову.
— На, возьми. — Грантик протягивал мне половину яблока. Он улыбался как ни в чем не бывало.
— Не надо… — отказался я, продолжая угрюмо водить прутиком по земле.
— Да ладно, бери, оно вкусное…
Не глядя на брата, я взял протянутую половину яблока и неожиданно для самого себя заплакал. Я злился на бабушку, на брата, на тех мальчишек, что смеялись, и еще на того упрямого серого осла, на себя и, кажется, на все, на все на свете… Я плакал долго-долго…
Мацун
Как я уже говорил, между мной и моим младшим братом Грантиком всего два года разницы. Что и говорить, не намного он меня младше, но факт остается фактом, и об этом не следовало забывать ни нашим бабушкам, ни нашим приятелям и ни тем более самому Грантику.
Был жаркий летний день. Мы с Грантиком рыли канавки для дождевой воды в саду. Увлеченные этой работой, мы не заметили, что солнце уже давно в зените и все живое — собаки, куры и даже насекомые — попряталось от жары в тени навесов, деревьев и кустов.
— Геворг! Грантик! Где вы? — Это звала нас Мец-майрик.
— Здесь! — в один голос закричали мы из-за тутовых деревьев.
— Идите есть мацун!
Вы никогда не пробовали в жаркий летний день свежий, холодный мацун, заквашенный в глиняных крынках? Поверьте, ничто на свете так не утоляет жажду и голод, как это густое жирное молоко, заквашенное в глиняной посуде и оставленное на всю ночь на холодном земляном полу! Вот почему мы с Грантиком не заставили себя просить второй раз, а, мгновенно бросив лопаты, побежали на веранду.
— Это — тебе, а это — тебе, — сказала Мец-майрик, поставив передо мной и Грантиком по крынке мацуна.
Крутые глиняные бока крынок запотели и влажно поблескивали на свету.
Грантик, не теряя времени, придвинул к себе мацун поближе и стал есть его ложкой, а я не притронулся.
— А ты чего ждешь?
Я молча и угрюмо уставился на стоявший передо мной мацун, с недовольным видом дернул плечом и головой.
— Почему ты не ешь? — с тревогой в голосе спросила Мец-майрик. — Уж не заболел ли ты, Геворг-джан? Ты же любишь мацун.
— Не хочу.
— Но почему же?
Я поднял на нее глаза:
— Сколько мне лет, Мец-майрик?
— Одиннадцать, — с недоумением ответила бабушка.
— А сколько Грантику?
— Девять.
— Тогда почему и мне и ему по одинаковой крынке мацуна?
Мец-майрик растерянно заморгала:
— А разве тебе этого мало?
— Мец-майрик, тут дело не в том, мало мне этого или много, — терпеливо разъяснял я, — дело тут вовсе не в количестве мацуна. Ты вот лучше скажи: кто из нас старший?
— Ну, ты…
— Если я старше, то, значит, мне, как старшему, полагается большая крынка мацуна, а Грантику — маленькая.
— Да ведь тебе большую не съесть! — воскликнула бабушка. — В ней же больше литра!
— Нет, съем. Если Грантик съедает пол-литровую крынку, то я смогу литровую, — настаивал я.
Мец-майрик секунду или две смотрела на меня удивленными глазами, потом, махнув рукой, пошла в кладовку, принесла огромную крынку мацуна и поставила передо мной.
— На вот тебе большую крынку, но смотри: если не съешь — вылью тебе на голову, — сказала Мец-майрик и, подняв на плечо большой медный кувшин, пошла к роднику за водой.
Доказав свое несомненное старшинство, я с удовольствием придвинул к себе огромную посудину и стал с аппетитом есть мацун, чувствуя на себе взгляд Грантика, в котором — честное слово! — я прочел не то уважение, не то восхищение.
Грантик уже съел свой мацун и с любопытством смотрел на мое единоборство с огромной крынкой. Ибо это было настоящим единоборством: я с трудом глотал мацун и уже жалел, что пожадничал. А с другой стороны, я старший и, как вы уже несомненно заметили, не терпел, когда другие не хотели этого замечать.
— Ага, больше не влезает? — спросил Грантик насмешливо.
Положив ложку на стол, я с показным равнодушием пожал плечами, не удостоив его ответом.
— Давай ешь, а то Мец-майрик вернется и наденет тебе на голову крынку, — уже откровенно смеясь, сказал Грантик.
Этого еще не хватало! Чтобы мне, старшему, советовали, как поступать! Будто я сам не знаю!
— А зачем ей это делать, я и сам могу, — сказал я и вылил остатки мацуна себе на голову.
Грантик в изумлении открыл рот.
— Закрой рот, а то воробьи залетят, — сказал я.
— Ну и ну! — воскликнул Грантик.
Я сидел, чувствуя, как прохладный мацун льется мне за воротник, стекает по лицу вниз, прямо на грудь. Хотите — верьте, хотите — нет, но в такую жару, какая стояла в тот день, это было даже приятно. А если бы и нет, все равно я не показал бы виду перед таким пацаном, как мой младший брат! А в том, что я его поразил, можете не сомневаться: он так и сидел, словно лишился дара речи, до самого прихода бабушки.
Нужно ли мне рассказывать, как рассердилась Мец-майрик, когда, вернувшись с родника, увидела, что я сижу на деревянной тахте, облитый мацуном.
— Вай, негодный мальчишка! — напустилась она на меня. — Что это ты сделал со своей головой, а? Зачем налил на себя мацун? — кричала Мец-майрик, которая никогда раньше не повышала голоса. — Люди сейчас голодают, а ты что делаешь, негодный мальчишка!