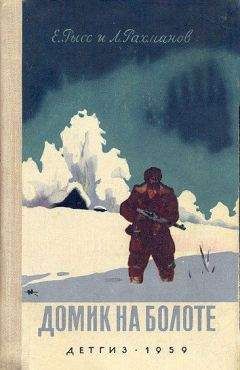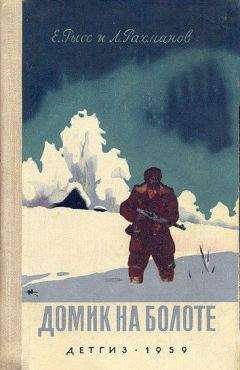Эдуард Корпачев - Тройка запряженных кузнечиков
9
Солнце скатывалось к горизонту, и по голому полю левады протянулись усталые тени тополей. На земле пестрели палевые сентябрьские листья, вмятые копытами в песок, и уже холодком ранней осени тянуло отсюда, из левады, уставленной изгородями да барьерами. Но стоило наездникам вывести лошадей из конюшни — и левада преобразилась, как не бывало сентябрьской тишины.
Игорь достал из кармана теплый початок кукурузы, протянул к морде Амальгамы, лошадь недоверчиво дернула мордой, потом принюхалась, трепеща ноздрями, повела глазами на Булата и осторожно прикоснулась к початку бархатными губами.
— Сегодня можно пускать Амальгаму на препятствия, — сказал Булат, легонько подталкивая Игоря к лошади и дружески напутствуя его. — Ну, давай.
Игорь и сам заметил перемену в поведении лошади: глаза Амальгамы были спокойны, их влажный блеск не вызывал у него тревоги. Но особенно ощутимой стала эта перемена, как только Игорь вскочил в седло. Лошадь по-прежнему заплясала под седоком, но теперь это было совсем другое нетерпение: Игорь сразу ощутил, что лошади хочется бега, стремительных движений, свежести скользящего по телу ветра…
Он пристроился к череде лошадей, гарцующих на месте в ожидании повелительного голоса всадника, и Ланцет, на котором сидел Шурка Хоменок, узнал Игоря и приветливо заржал.
Амальгама, не дожидаясь своей очереди, внезапно взяла с места, понесла всадника вперед, но едва успел Игорь придержать ее буйную рысь, как лошадь уже распростерлась в воздухе над первым барьером: теперь она совсем не пыталась избавиться от всадника.
Точно проснулся в теле Амальгамы ветер! Мягко отделяясь от земли, она вытягивалась над преградой в струну и снова гнала, гнала подковами назад иссеченную землю, и еще ни разу не было у Игоря такой восхитительной тренировки, когда жутковато замирает сердце, когда еще не совсем доверяешь причудам лошадиного норова.
Должно быть, Амальгама намеревалась возвращаться к препятствиям бесконечное множество раз, но Булат звучным хлопком остановил жокеев и после короткого отдыха приказал:
— А теперь — марш по кругу!
На днях предстояли состязания на осенний приз конноспортивной школы — скачки на кругу ипподрома, на гладком, лишенном препятствий кругу. Игорь знал, что всегда в таких случаях полным-полно набирается городских болельщиков, и надо подготовиться и выступить хорошо, чтобы видели люди: недаром тренируются хлопцы у чемпиона республики.
Амальгама снова пыталась выйти вперед, но Игорь упрямо сдерживал поводья, мысленно как бы говоря: «Спокойно, Амальгама. Будет время». Лошадь утихла, пошла размеренней.
Тренер придирчиво наблюдал за Амальгамой, пока не промчался Игорь перед ним один круг, и второй, и третий. Булат с радостью отметил, что лошадь поверила в нового всадника, широко усмехнулся, крикнул Игорю:
— На скачках будешь выступать на Амальгаме! Согласен? То-то!
Игорь весело оглянулся, но не тренера увидел, а скакавшего позади Чубаря, и каким долгим, завистливым, незнакомым взглядом смотрели на него Вовкины глаза!
Что за странные, непонятные вещи происходят с этим Чубарем?..
10
«Если Куневич выступит на Амальгаме, — подумал Вовка, — то первое место за ним». И тут же встрепенулся: не высказал ли он вслух эту мысль?
В конюшне было тихо, лишь в дальнем деннике изредка икал Бегунок, да шуршал членом, устраиваясь на покой. Потапыч, а так никого не было, уж полчаса назад шестиклассники разошлись по домам, унесли из конюшни гомон. А Вовка остался: он должен дежурить всю ночь с Потапычем.
Потапыч уже несколько раз окликал его, но Вовка отмалчивался, размышляя про будущие скачки, про недавнее сочинение, про Амальгаму и Куневича, про все невеселые события, которые происходят теперь в конноспортивной школе. При слабом свете лампочек, в одиночестве хорошо мечталось о том, как он, Вовка, стрелой пронесется по ипподрому, вызывая восхищение зрителей, а потом его поздравят, а потом наградят призом… Но эта выдумка сразу становилась призрачной, когда всплывала в памяти вихревая Амальгама, и никак, ну никак не мог примириться он с мыслью, что кто-то другой станет победителем. В голове исподволь созрел отчаянный и в то же время очень простой план. Вовка тут же побежал к Потапычу.
— Я не смогу дежурить, Потапыч, — взмолился он. — Пойду домой. Плечо все саднит. Как ушибся тогда…
— Да мне и одному не страшно, — согласился конюх. — Иди.
Выскользнув за ворота, Вовка замер, прижался всем телом к бревенчатой стене, чувствуя, как сердце будто падает куда-то в глубокий колодец, на короткий миг всплывает и снова падает…
Вовка замер, прижался всем телом к бревенчатой стене, чувствуя, как сердце будто падает куда-то…
Долго таился он, подстерегая, когда Потапыча сморит сон, а потом неслышной тенью проник в конюшню и действовать решил без раздумий, потому что знал: если хоть на миг заколеблется, то струсит и наверняка убежит.
Вот шагнул в денник, на секунду замер, снова ожидая удара, но Амальгама встретила его равнодушно, и тогда дрожащей рукой он вложил ей в губы припасенное яблоко, не мешкая вывел в проход меж денниками. Еще сильнее сжалось сердце клешнями страха: только бы не выдал глухой стук подков, только бы предательница не заржала… Тогда — всему конец!
Похрустывая яблоком, Амальгама шла в поводу за Вовкой, и вот уже и ворота, вот зачернело в проеме небо — темное, звездное.
Оставив лошадь во дворе, Вовка вернулся в конюшню, послушал, все ли спокойно. Потапыч безмятежно посапывал во сне, и тогда Вовка смелее подошел к распахнутой дверной решетке, пошарил глазами по настилу — не обронил ли чего? А закрывать дверь денника не стал: пусть думают, что забыли закрыть с вечера и что Амальгама сама покинула конюшню.
11
Вкус яблока понравился лошади, она обернулась назад, к воротам, ожидая от ночного пришельца новой подачки. Зашуршало под ногами сено, пришелец торопливо подался в темень, и долго слушала Амальгама, как затихают шаги.
Возвращаться в душный денник не хотелось, она вбирала ноздрями свежий душистый воздух, постригивала чуткими ушами и не знала, что делать. Уж не прикажут ли ей снова мчаться по черному кругу левады? Сейчас на земле ночь, высоко шевелятся зерна звезд, а в той стороне, где город, небо подсвечено сполохами огней.
Еще раз повела лошадь мордой, услыхала посапыванье конюха, и это ожидание раздосадовало ее, она шагом двинулась через весь двор к ипподрому, но едва коснулись копыта знакомой, волнующей, твердой полосы круга, как ноги сами перешли на иноходь. Без седока скакать было непривычно и смешно, Амальгаму развеселил этот свободный, не понуждаемый рукою наездника бег, она вдруг сильно и вольно, всем нутром, заржала, резко свернула с круга, помчалась напрямик по траве, хлещущей по бабкам. Когда впереди выросла изгородь, окаймляющая, наверное, весь конезавод, Амальгама привычно перемахнула через нее, попала на помидорное поле, споткнулась о куст, отяжеленный плодами, но сразу же отыскала узкую межу.
Острые, прелые, по-осеннему горьковатые запахи неслись ей навстречу, волновали чем-то далеким, неясным, и лошадь никак не могла уловить: откуда это щемящее чувство? Но как только осталось позади поле и начал стелиться под копыта луг, в сознании лошади мелькнуло: повеяло солнечным детством. Ведь так легко и томительно бывало Амальгаме только в ту далекую пору детства, когда она была еще стригунишкой и не имела имени, когда весь день напролет носилась по желтому от лютиков выгону, пугалась гудящих шмелей, играла с матерью и поминутно совала морду в теплый, пахнущий молоком пах. Всплыло это настолько отчетливо, что она даже остановилась, как бы оглушенная счастьем, и жадно приникла мордой к жесткой прохладной отаве.
Дальше на пути попался стог сена, лошадь почесалась о его шероховатый бок. От стога пахло жильем, словно от денника, здесь можно было бы спокойно, без тревоги щипать отаву, но дух приключений, как в детстве, гнал и гнал ее вперед, навстречу неведомому.
Уже иные запахи щекотали ей ноздри: веяло свежестью реки и еще чем-то приятным, напоминающим вкус яблока. Вскоре Амальгама достигла берега, замерла над черной, журчащей в камнях, всплескивающей в лозняках водой. От воды поднималась сырость, а там, за рекой, темнела роща, оттуда доносились таинственные шорохи, настойчиво сквозил запах опавшей листвы, и лошадь почувствовала в ногах новый безотчетный зов, сошла, шурша песком, к реке, ступила в воду… Послышался шумный плеск, словно кто-то загребал веслами, и вот Амальгама поплыла к другому берегу плавными толчками, с напряженно вздернутой мордой, а течение здесь было слабое, и она легко преодолела реку.
Роща звала к себе шорохами, похрустыванием сушняка, голосами полуночных птиц, и как было Амальгаме избавиться от жгучего любопытства к ее ночной заповедной жизни?