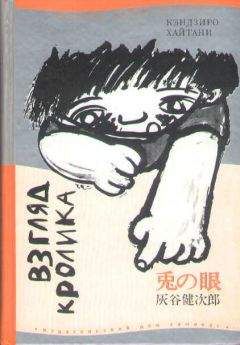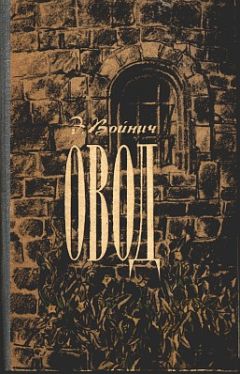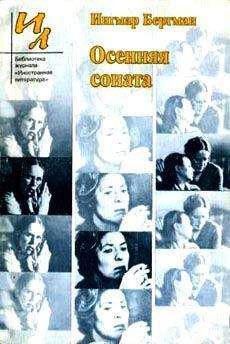Олег Алексеев - Горячие гильзы
У партизан были топографические карты, на иных картах были отмечены даже тропы. И всё же никакая карта не могла в нашей местности заменить проводника. Не все тропы и дома были на картах. Партизаны чаще всего были вынуждены ходить по ночам сложными, окольными путями. Днём можно было попасть в засаду, наскочить на карателей. Многие дороги оставались опасными и ночью.
Мать выросла среди рыбаков и охотников, не боялась воды и леса, ходила на болото за ягодами. И теперь она, это понимал даже я, стала надёжным проводником. У неё были свои переходы, свои лазы. Однажды мать сказала мне, что стала хорошо видеть в ночной темноте.
Ходила мать быстро, я всегда за ней едва поспевал. Я догадывался, что и партизан мать водит так же быстро.
Как-то мать рассказала, что ещё совсем маленькой попала на мшары и чуть не утонула.
— Страшно было, да? — испуганно спросил Серёга.
— Бывает и пострашнее… — ответила мать.
Я понял, о чём мать хотела сказать. Ошибись она теперь, ошибка могла бы стоить очень дорого… Погибла бы сама, погибли бы партизаны, мы остались бы сиротами…
Чуть свет в деревню ворвались немецкие егеря. Подбежав к окну, я увидел, что посреди нашего огорода поставлен пулемёт, и пулемётчик бьёт в сторону озера. Я перебежал к другому окну, чтобы увидеть, в кого он стреляет. Мать и братишка оказались рядом. И тут я увидел егеря с карабином. Разгорячённый боем, он лёг между двух яблонь, отстегнул фляжку, отвинтил пластмассовую крышку, жадно выпил из горлышка. Он тоже увидел нас, сорвал с плеча карабин.
— Ложись! — завопила мать и толкнула одной рукой меня, другой — брата.
Брякнулись об пол… С сухим звоном, как лёд, посыпались осколки стекла. Дохнуло холодом и запахом гари.
Лишь когда палить перестали, мать осмелилась закрыть разбитое окно подушкой…
Даже рыбы не стало. Каждый день — бой, на озеро не покажешься. Есть стало почти нечего. Но доилась корова. Половину молока мы относили Огурцовым, поселившимся в доме Антипа Бородатого. Корову у них увели каратели, когда жгли постройку.
По весне партизаны стали приходить чаще. Мать брала палку-посох, надевала отцовские сапоги, вела партизан. Самыми безопасными мать считала тропинки, проложенные по озёрным берегам, и лесные тропы. Мать уходила, а мы с Серёгой забирались на печь и ждали, когда она вернётся…
Во время перестрелки выбило стекло в другом окне. Мы даже толком не испугались. Но стало страшно, когда я выбежал на крыльцо: по полям, на которых сошёл почти весь снег, шли цепь за цепью каратели.
Я вернулся, рассказал матери о том, что видел.
— Опять облава. — Мать покачала головою.
И вдруг к дому подъехали сани с тяжелоранеными партизанами. В дом вбежал подводчик, перепуганный молодой парень.
— Где наши? В Усадине? В Носовой Горе?
— В лес тебе надо, — насупилась мать. — Вокруг каратели, не видишь, что ли?
— Вижу. Под берегом попробую…
— И не пробуй. Закрайки. Одна дорога осталась: наискосок через озеро. Сама поведу.
Мать действовала быстро и решительно. Взяла коня под уздцы, повела. Сани легко скользили по влажной земле. Из окна мне было не видно, как партизаны и мать перебрались через закраек, но вскоре сани уже катились по голубоватому подтаявшему льду, конь шёл спорой рысью, мать бежала рядом. Подводчик едва поспевал за санями, резко натягивал вожжи. И вдруг лёд просел под матерью, и не держись она за узду, тотчас ушла бы в воду. И тут я увидел, что она сама выпустила повод, по плечи ушла под лёд. Понял: не сделай мать этого, сани с тяжелоранеными тоже провалились бы…
Сани прошли рядом с матерью. Подводчик плашмя лёг на лёд, протянул маме приклад карабина…
Серёга тоже всё видел, заплакал от ужаса. Вдвоём, забыв об опасности, мы бросились к озеру… Сани поднимались на противоположный берег, к нам бежала мокрая и перепуганная мать.
В первый раз мать легла вместе со мной и Серёгой на печи. Всю ночь она металась в жару. Утром рассказала, что видела во сне, как сани уходят под лёд, чуть не сошла с ума.
— Неправильный сон, — успокоил маму Серёга.
ИЗ ОГНЕННОГО КРУГА
В тот день партизаны появились не вечером, как обычно, а рано поутру. Глаза у всех красные от бессонницы, одежда и обувь мокрая. Вместе со всеми пришёл Иван Матвеевич, наш учитель. Он был в задубевшем кожаном пальто, в мокрых валенках. Близился конец апреля, не все партизаны обзавелись сапогами. У нашего учителя их не было тоже. Кто-то из партизан тут же прилёг на полу, положив вместо подушки под голову мешок с патронами…
И впервые я услышал слово «окружение». Повторялось оно шёпотом, но пугало куда больше, чем гулкое и резкое «облава». Выбежав на улицу, я увидел вокруг чёрные-чёрные дымы. Горело сразу десятка два-три деревень. Дымы замкнулись в страшное гигантское кольцо.
Меня вдруг позвала мать. Она вывела из хлева корову, сказала, что мы пойдём в деревню Шарино.
— Зачем? — удивился я.
— К быку поведём, — ответила мать как бы между делом.
Сначала мы шли берегом озера, потом перебрались через Грязный ручей, который и вправду был грязен, но грязь не стояла, как в луже, а текла. Когда подошли к большаку, мать тревожно огляделась, и мы торопливо перебежали дорогу.
Деревня Шарино, казалось, вымерла. Даже в окна никто не смотрел. Мать постучала в один из домов, о чём-то спросила женщину, что на минуту приоткрыла дверь. Потом мы отошли от дома. Возле большака нас остановили немцы. Это были не полицейские, но смотрели на нас они с недоверием и злобой, как и те, что появлялись по зиме. Фашисты были обвешаны оружием и, что меня удивило, выглядели спокойными.
Мать что-то сказала солдатам по-немецки, они заулыбались, а один, с нашивками, весело похлопал нашу корову по боку.
Мы жили в странном мире. Через короткий срок мать уже говорила с партизанами, и партизаны не пугались, словно никаких немцев рядом и не было. Двое партизан склонились над картой, и один из них провёл красным карандашом линию, на карте словно бы вспыхнула красная искра.
Потом мы с матерью снова пошли в Шарино. Я понял, что мы посланы в разведку, и от страха весь сжался. Мать шла молча, смотрела мимо меня, отчуждённая и целиком ушедшая в себя. Весела была лишь корова, которой до смерти надоело стоять по зиме в хлеву. В марте мы уже водили корову к быку — в соседнее Усадино. Поблизости стреляли, но мать сказала, что война войной, а корова коровой, она про войну не знает. Я хорошо помнил тихий светлый вечер, недальние выстрелы и лицо матери, которая, казалось мне, никакой опасности не видит…
Возле большака на этот раз мы стояли в нерешительности не меньше часа, видели, как прошёл патруль, пропустили роту пехотинцев и несколько грузовых машин. Я посмотрел на мать. Лицо её было тёмным от волнения, и взгляд полон страха, как у мальчишки, приготовившегося прыгнуть с обрыва в омут. Мы побежали, мигом миновали дорогу. К Шарину подошли скрытно — по тропинке, проложенной через болотину. И вновь застыли на месте. Страх мой не уходил, и, когда где-то неподалёку выстрелили, я присел от ужаса на корточки. Мать словно бы не заметила этого, молча смотрела на дома, хлевы и омшаники…
Что было потом — не помню. Думаю, что забыл от страха, от напряжения. Помню лишь наш дом, брата, выбежавшего на крыльцо, партизанского часового. Стоял уже вечер, становилось темнее и темнее.
Страшное кольцо пожаров пропало вдруг в глубокой тьме, но тут же взвились в небо сигнальные и осветительные ракеты, и нашу деревню, озёра и лес взяли в огненный круг, и круг этот стал сжиматься…
В темноте партизаны ушли по лесной дороге.
…Когда я увидел фашистов, не поверил глазам — так их было много. Покачивались каски, вязли в сырой земле грузные сапоги. Шли солдаты бесшумно, держа на весу оружие…
Бежать в лес, в старую пекарню, мы уже не могли — бросились к погребу, устроенному в озёрном берегу. На лестнице, ведущей вниз, было семнадцать ступеней, но по ним никто не спускался, скатывались, будто с ледяной горы.
В погребе мы с братишкой забились за мешки лука. Люди сидели так тесно, что нельзя было пошевельнуться. Закрыли люк, и стало совсем темно. Выстрелы слышались глухо; было не понять, где стреляют. Сидели мы молча, не зажигая света.
Вдруг кто-то затопал наверху. Стало жутко: а вдруг откроют люк, бросят гранату.
— Может, это Яшка и Машка? — спросил у своей матери Саша Андреев.
Тётя Паша резко встала, пробилась к выходу, открыла люк.
— Ах, вы, окаянные… Я вас сейчас!
Заперев козла и козу в хлеве, тётя Паша вернулась в погреб.
— Что там наверху? — спросили из темноты.
— Бой идёт. За лесом… Ракеты пускают, чуть не из-за каждого куста.
Стрелять вдруг стали совсем рядом, кто-то пробежал по тесовому люку…
Потом его с треском открыли, по лицам заметался луч карманного фонарика. На лестнице стоял наш учитель, он и светил.