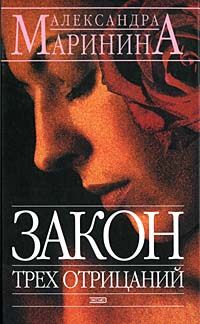Герман Балуев - ХРОНИКЕР
— Чего привел?
— Во! Бегает, — как-то скользко подал гостя Куруля, то ли восхищаясь им, то ли презирая его. — Один раз проводили, снова пришел. Может, понравилось?
Курулин-старший, выпрямившись, покосился на потешно одетого маленького беженца, бросил сыну:
— Тебе-то что?
В тупике коридора у Курулина-старшего был установлен верстак, деловые тумбочки, на стенах висели всякие коловороты, ножовки, паяльники, стояли на полочках банки с олифами, клеями, политурами и канифолями. На миг оторвавшись от своего занятия, Курулин-старший продолжал там что-то молоточком клепать.
— Собираешь всякую рвань!
У мальчика от обиды и ярости на глазах выступили слезы.
— Че рвань-то?! Че рвань?! — развеселился Куруля. — Пуговки, ты глянь хоть, и те перламутровые. А ты говоришь «рвань». Верно, Лешка? Геройский парень. Под бомбежкой был, вешать хотели.
Паня, мать, всплеснула руками.
— Ой, горе ты наше сиротское. И наши там. Где днюют-ночуют? Може, лежат в пыли, своей кровушкой умываются. Чем провинились мы, господи? За что на нас така зла напасть?!
Отставивший молоток Курулин-старший и Курулин-младший поговорили о нем при нем, а трое детей и мать стояли и его жалели. Все это было ужасно стыдно, но в то же время почему-то и хорошо.
— А ну, подь сюды, Алексей! — поманил его к верстаку Курулин-отец. — Это, к примеру, что вот такое?.. Молоток? Верно. А ну-ка ударь!.. Вот так! Ничего. Он к тебе еще не привык, молоток-то, да. А это что ж я такое делаю?.. Крючки гну, верно. Ну, не гну, а жало им отбиваю. Закалил, в масле подсолнечном остудил — и вот... Цела банка уже, вишь, какая?! А это... вишь, пружинные — петли на зайцев. А это сковорода, чтобы дробь катать. А ну-ка пробуй!.. Никак?.. Ну, ничего... Вишь, какой у нас арсенал? А зачем? Чтобы жить, Алексей. Гитлер напал, так что ж нам — плакать? Нет. Те, которые на фронте, должны биться, а мы тут тоже сопли не должны распускать, а извернуться и жить. Вот ты кто, Алексей? Ты русский. А на русскую землю всякая погибель и напасть приходила, а все русский умел извернуться. Вот и ты, хоть и мал, да времени нет расти. Мужиком, выходит, надо становиться. Уметь, вот! Леса кругом, река великая, луга заливные драгоценные. Зверь есть, рыба есть, трава по грудки растет — как же не выжить?! Надо выжить! Пойдете с Васькой рыбу ловить, зайца брать. Я тя насобачу слегка по дереву, по металлу, валенки там подшить или еще что... Живи! И матери скажи, чтобы сюда глядела. Чего там, в Воскресенске? Старухи молятся да крапива растет.
Он сходил в чулан и принес оттуда большую банку и отлил из нее в банку поменьше драгоценного вонючего жидкого мыла. Потом переглянулся с Паней, и та, напряженно помедлив, преодолев в себе сопротивление, принесла кусок белой зайчатины и под завороженными взглядами детей завернула его в белую тряпицу, а Курулин-отец ловко перетянул бечевой.
К удивлению Васьки, Курулин-старший сам пошел проводить Лешку. Обронил после долгого молчания:
— Тяжело оставаться живым, когда сыны там умирают. Да вот рука плохо действует... Не солдат.
Они дошли до вырубок. Вечер уже упал, ночь смотрела с полей.
— Иди, Алексей. Боишься?.. Ну, ты бойся, а все равно иди!
Прижимая к груди банку с мылом и зайчатину, подгоняемый холодным, темным ужасом ночи, мальчик все двенадцать километров до Воскресенска бежал. Подморозило. Взошла луна и исковеркала избитую копытами лошадей дорогу. Блестевшие по сторонам полевые лужи на глазах подергивались гусиной лапой ледка. «Ты бойся, а все равно иди!» — как заклинание, повторял бегущий мальчик, еще не зная, что это вложено в него навсегда.
ОСТРОВ
росто вышли поглотать солнышка, постояли на крыльце, щурясь, а зазвенел внутри школы звонок — как-то нечаянно, как бы для того, чтобы не мешать ему звенеть, зашли за угол: и так сильно и ярко пекло солнце, так маслянисто слоилось густое апрельское марево, так извивались в нем хлысты молодой посадки, так желто тек вдоль стены школы зной, что возвратиться в школу было просто невозможно. И они, Лешка и Пожарник, не сговариваясь, молча и быстро пролезли через посадки, мелькнули вдоль улицы, увидели в отдалении длинный грибок базара и, не в силах побороть себя, свой соблазн, вожделение, сомнамбулически поперлись по открытому месту, по базарной площади, если можно назвать площадью скатывающийся к озеру глинистый истоптанный бугор, на котором был построен склад с коновязью, а под прямым углом к нему — корявый прилавок базара и рядом столб с пожарным колоколом, из которого свисал реющий по ветру расплетенный кусок веревки. Аптека, клуб, магазин, почта, как бы отпрыгнув, чтобы взглянуть на происходящее из отдаления, окружали базар. Над озером чертили небо стрижи. За озером чернела зубчатка частных домов.
— Хлебом пахнет, — прошептал Пожарник. И только он это сказал, оба почувствовали голодную тоску и боль в сведенном судорогой желудке.
— Здорово пахнет, — сглотнул слюну Лешка.
— Духовито!
А какое там «духовито»! Всего-то одна черная с наплывшей верхней коркой буханка лежала поверх мешка. Они оцепенело постояли перед ней, ловя жадными ноздрями воздух. Наконец, кое-как оторвались, посмотрели на мясо, которое продавала татарка, на привезенную из деревни шершавую бугорчатую картоху. Чего зря-то себя истязать?! Сдернулись дальше, где, как бы отдаленные пропастью от продавцов съестного, томились в своих белых пальто, жакеточках и маленьких шляпах эвакуированные гражданки, разложив на прилавке сказочные богатства: фарфоровых и стеклянных зверей, перламутровые ножички, прозрачные сафьяновые альбомы с марками, на которых потрясающе были изображены негры, пальмы, плывущие под парусами фрегаты, стеклянный шар, внутри которого переливалась красавица, сломанный патефон, театральный бинокль, прислоненный к прилавку, никелированный шикарный, чуть искалеченный велосипед. Время для наших друзей остановилось. Деликатно посапывая, они могли созерцать эти богатства часами. Волнующе было то, что на базаре ежедневно появлялись новые вещи, и их запросто можно было бы прозевать, не наведывайся они сюда постоянно. Напрочь лишенные покупательной способности, они были вынуждены рано или поздно с сожалением покидать базар. Они уходили потрясенные и насыщенные его великолепием. И только созерцание пищи ничуть не насыщало их. А даже напротив: на какое-то время голод становился почти нестерпимым — и сосало, и поташнивало, и от любого запаха начинала кружиться голова.
— А если копить, копить, копить, а потом купить сразу буханку?
— Хлеба?
— Ну.
— Сто лет надо копить, — сказал Пожарник. — Ты знаешь, сколько она стоит? Двести рублей! А у меня брат получает шестьсот рублей. На три буханки. Так он работает! А мы?
— Эх, хорошо бы работать!
— Работать... — с презрением сказал Пожарник. — Че ты умеешь?
— А ты?
— А ты! — свирепо передразнил Пожарник. — Я затонский. Я подрасту, меня сразу на завод возьмут. Только вот боюсь, вдруг силенок не хватит, — сказал он озабоченно. — Позориться-то нельзя!
Ноги сами вынесли их на подсыпанную шлаком Заводскую. Ее, как уже говорилось, образовывали громоздкие бревенчатые казенные двухэтажные дома. Они таращились лысыми квадратными окнами. По оси улицы росли уже окутавшиеся зеленым дымом березы. Сквозь их нежную занавесь были видны венчающие улицу механический цех и покрашенная в голубое контора. Проскочив между ними, Заводская как бы вылетала в простор, в голубое небо, опирающееся краем на миражно-розовую пену далеких гор.
И они, выйдя на берег, постояли, ошеломленные этим открывшимся перед ними простором. Разлив громадно вздулся, затопил весь лесистый клин, отделяющий Бездну от Волги. Кусты уже скрылись под водой, лес странно проредился, стоял посреди разлива, смотрелся в воду, и через него свободно шли голубые валы.
То, что было до леса, стало теперь Бездной, неслось сочным голубоватым водопольем. И причаленные по четыре борт к борту суда, еще недавно заполнявшие своими телами едва ли не всю ширину реки, теперь потерялись среди этой шири, льнули к берегу как железная накипь, как длинная полоса наноса. Рубки пассажирских пароходов поднялись уже выше шлаковой подсыпки набережной, и это было почему-то страшно весело, будоражаще. Прямо с Набережной наши ребята сквозь сияюще вымытые стекла рубок рассматривали громадные, оклепанные медью штурвальные колеса, переговорные, тоже горящие медью, трубы. Отблескивали белым заново выкрашенные шлюпки, играли надраенные медные поручни, сияли золотым лоском прилипшие к дымогарным трубам свиристели ярко-медных гудков — предмета особой гордости и бережения каждой команды.
За сохранившими свою праздничность пароходами стояли переделаные из буксиров канонерские лодки. Деревянные надстройки на них были заменены стальными. Носовое орудие в башне, две автоматические зенитки на мостике, крупнокалиберный пулемет на корме — все это было невероятно волнующе, ибо придавало знакомому и привычному новый, военный, свирепый смысл. Уже готовые канонерки были выкрашены «дичью», то есть серой шаровой краской. Маляры еще торчали кое-где в люльках. На палубах мелькали военные моряки и пароходские. Пароходские были почти все знакомые, а моряки — совсем молодые: мальчишки. И это тоже действовало возбуждающе. У Славки-Пожарника даже слезы выступили, и Лешка спросил его: