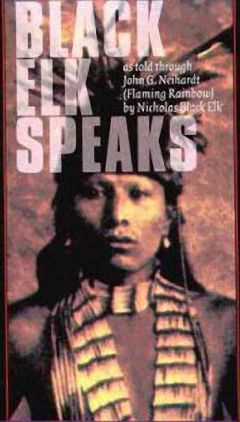Василий Большак - Проводник в бездну
Хозяйка стояла у стола и приглашала есть, хотя они и так уплетали за обе щеки.
— Э-э, Ашот, ради такого борща стоило спать в сене, грызть сырую свёклу… Скажи?
Ашот кивал головой — согласен, мол, согласен, но не отрывай меня от дела важного…
Екатерина Павловна грустно слушала ту, как ей казалось, незаслуженную похвалу — какой уж там борщ, постный, вчерашний. Это с голодухи показался он Петру вкусным. Или хочет приятное сделать своей Кате, которая когда-то умела варить борщи. Действительно, за уши не оттащишь, бывало, от такого борща.
Пётр любил после работы помыть руки, надеть белую вышитую сорочку, сесть за стол и спросить:
— А чего тут наша мама наварила-напекла? А запахи, а ароматы? Нет, такого мы, хлопцы, ещё никогда не ели!
Хозяйка, хлопотавшая возле мисок-тарелок, даже цвела от такого внимания.
— Фу! — тяжело переводил дух хозяин после обеда. — Сегодня мы, хлопцы, ели как молотобойцы.
«Мы» в понимании «я»… Какие с детей молотобойцы? И ели крепенько не потому, что проголодались. Отец приохочивал. Да и матери угодить хотели. Потому что в доме был культ матери. Мать — самая красивая, мать — самая умная, мать всегда делает правильно, слово матери — закон.
Всё это такое близкое и далёкое уже, окутанное не так годами, как отмежеванное тяжёлым временем, пришедшим на нашу землю.
Екатерина Павловна стояла возле стола, сложив руки на груди, наблюдала, как рьяно черпали ложками вчерашний борщ Пётр Сидорович и Ашот. В уголках её губ теплилась улыбка, будто уже и тревоги улеглись, и горе не бродит дымными военными дорогами. Словно встанет сейчас из-за стола её Пётр, выкурит цигарку, обнимет её худенькие плечи и скажет:
— А теперь, старушка, бай-бай…
Действительно, поужинав, Пётр Сидорович поднялся, прошёлся по хате, окидывая её взглядом, как бы ища в ней перемен. Но не сказал «бай-бай», а спросил жену, ещё не веря, что им с Ашотом улыбнётся счастье:
— А нет ли у тебя какой-нибудь махры?
— Почему же. Есть. Ещё твоя. Я сейчас.
Мужчины закурили, затянулись давней кременчугской, невероятно душистой для них махоркой.
— Э-эх, поспать бы минут пятьсот! — Пётр Сидорович заломил руки так, что они хрустнули в суставах.
— Кто же вам не даёт, — кинулась к кровати хозяйка. — Я сейчас постелю.
Посуровел Пётр Сидорович.
— Нет, Катя, мы с Ашотом дальше пойдём…
— Ку-да?!
— Куда шли…
— А разве ты не домой шёл?
Молча покачал головой.
— Нет, не домой, Катя.
Побледнела сразу Екатерина Павловна. Ещё бы, ведь умом она смогла постичь: Пётр — комиссар, он [не может стоять в стороне, когда идёт битва, кровавая и жестокая. Но сердцем… Как это так — пришёл, поел борща — и бывай здорова, черноброва…
Хотела она спросить: «А куда же ты, Пётр, пойдёшь глухой ночью?» Но не спросила. Ведь такие, как Пётр, выбирают время, чтобы ни враг пришлый, ни свой враг не увидели его следов.
Пётр Сидорович неожиданно поинтересовался:
— А где Яремченко? В армии? В эвакуации?
— Ни там, ни там. До последних дней дома был, а потом исчез.
— Не знаешь куда?
— Поговаривают, в лесу видели его.
— О, это уже хорошо! Может, найдём его, Ашот? Леса у нас знаменитые. Отсюда начинал свей поход Николай Щорс. Не думаю, чтобы сейчас тут было пусто. В других лесах встречались нам отдельные группы партизан. Но мы с Ашотом так решили: увидимся с Катей, а потом уже воевать. До полной победы! А после победы все едем в Ереван, на озеро Севан, к Сильве Тёр-Акоповой. Так мы планировали, Ашот?
— Так…
Слушала она наигранно-весёлый разговор Петра, а самой неловко было перед комиссаром Ашотом за те, непроизвольно вырвавшиеся слова: «А разве ты не домой шёл?» Как она могла такое подумать о Петре?
Тем временем бородатый Пётр ласково, как всегда бывало, обнял её за плечи тёплыми руками.
— Что задумалась, Катя?
— Так… Ничего. Всё будет хорошо, Пётр. Я верю.
— Вот и прекрасно. Будешь верить — порядок будет. Главное в жизни — Еерить, Катя. Мы с Ашотом много километров отшагали по земле нашей и всякое видели: и тех, кто верит, и тех, кто не верит… Встречалось, и врагов видели… своих врагов. Как это страшно — «свои враги»…
— И в Таранивке есть такие.
— К сожалению, везде очи есть… Ну, Катя, прости. Нам с Ашотом пора!
Ушли Пётр с Ашотом в ночную темень. И вновь жутко стало в хате. И такое было впечатление, будто бы и не приходил Пётр с тем красивым горбоносым Ашотом, будто бы ей всё привиделось. Но письма от сыновей, принесённые Петром, возвращали её к реальной действительности — был Пётр, вон там, за столом, с Ашотом уплетали борщ, курили махорку.
Частенько Екатерина Павловна посиживала у окна и вспоминала, вспоминала, вспоминала…
Теми до жути белыми днями, когда гудели вьюги за окном, а ещё больше ночами, она вспоминала свою жизнь. Школу рабочей молодёжи. Курсы учителей в Прилуках. Потом первые шаги учительские, приезд степняка Петра в село, свадьба, дети, безоблачное счастье с Петром, проводы сыновей, разлука с мужем. Жила встречами и проводами.
И сейчас Пётр подарил ей уже несколько встреч. И хотя встречи были только ночью и бередили душу («А что, если выследит кто?»), но жила ими. Пётр, глядишь, то газету советскую принесёт, то просто добрую весточку, как он говорит, с Большой земли. Один раз с Михаилом Швыдаком приходил, второй — с Антоном Степановичем. Говорил Пётр — уже связались они с Большой землёй по радио, пробиваться будут с Ашотом через линию фронта. А пока что «щиплем немцев». Слухи ходят об этом по сёлам. Лютуют гитлеровцы после таких щипков… Вчера, говорили люди, большой склад боеприпасов подорвали партизаны в Яблонивке.
Екатерина Павловна даже вздрогнула, услышав крик совы. Она никогда не была суеверной, но в по-следнес время, если завоет собака или скотина ночью заревёт, мурашки по телу побегут. А теперь эта со-за… И вчера прилетала, и позавчера… Выходила Екатерина Павловна, прогоняла, но сова снова возвращаюсь, кричала с сосны возле плетня.
Кто-то зашуршал в сенях. Испуганно и радостно она метнулась к дверям, хотя и знала: днём Пётр прийти не мог.
— Можно, Екатерина Павловна? — услышала она мальчишечьи голоса.
— А, это вы, щорсовцы? Садитесь, рассказывайте, как вы там… воюете?
Вместо ответа мальчишки шмыгнули носами и подтянули брючонки. И в карманах жалобно дзенькнуло.
— Что там у вас?
— Да-а…
— Смотрите, а то заметит кто недобрый…
— Да-а-а…
— Вот вам и «да». На глаза дуросветам не попадайтесь с этими штучками. — Глазами указала на их оттопыренные карманы. — Ну, рассказывайте, зачем пришли? Я знаю, вы без дела не приходите. Так или нет?
— Так.
И снова дзень-дзень.
Гриша ловко вынул из потайного кармана листовку, расправил, подал Екатерине Павловне.
— Вот…
— Где это вы?
— В лесу нашли… С самолёта сбросили…
Екатерина Павловна быстренько надела очки и, сдерживая волнение, пробежала глазами листовку. С тревогой оглянулась на окна.
— Вы никому не показывали?
— Н-нет… Хотели пионервожатой, но её немцы арестовали.
— Олю?! — ужаснулась Екатерина Павловна.
— Ага. Босую повели… По снегу.
Несколько долгих минут Екатерина Павловна смотрела в окно, за которым на холодную землю опускались большие снежинки, потом снова поднесла к глазам найденную мальчишками листовку. И начала читать — сначала тихо, а потом всё громче — о том, что стоит Украина в огне, стоит страдающая и измученная, но непокорённая, не поставленная врагом на колени…
Гриша слушает, и кажутся ему те слова живыми. Как люди, как птицы… Слушает и смотрит на высокие ворота, занесённые снегом. Вдруг ворота распахнулись, и Гриша, бледнея, громко зашептал:
— Екатерина Павловна, поглядите!..
Екатерина Павловна глухо вскрикнула: в окружении гитлеровцев во двор неуверенной походкой вошёл Пётр Сидорович.
Только успела она спрятать листовку за пазуху, как фашисты затарабанили прикладами в сенные двери. Потом на пороге вырос Мыколай с перебинтованной головой.
— Выходи! Полюбуйся на своего бандита!
Это говорил бывший её ученик, которого она учила любить добро и ненавидеть зло, которого учила уважать старших.
— Как ты смеешь…
— А ну молчать! Кончилось ваше царствование! Выходи! Ну, кому сказано?
Будто не своими ногами вышла Екатерина Павловна во двор и едва не упала, встретившись с каким-то чужим и вместе с тем родным, умоляющим взглядом Петра. Он прислонился к воротам, не в силах держаться на ногах.
— Узнаёшь? — кивнул на Петра Сидоровича один из гитлеровцев, наверное старший. В зубах держал сигарету, в руках — огромный парабеллум. Он подбрасывал его, ловил в воздухе — забавлялся. Шинель на гитлеровце не такая, как у всех, не зелёная, а чёрная. И на рукаве человеческий череп изображён.