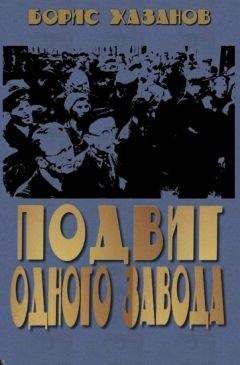Николай Огнев - Дневник Кости Рябцева
— Какой секрет? Пожалуйста, без секретов.
— Нет, очень важный. Ты знаешь, я в тебя влюблена.
— Что-о-о?!
— Да ты не штокай. Ты не думай, пожалуйста, про себя очень много, влюбление не от нас зависит, а от природы. И не воображай, что я из-за тебя что-нибудь натворю. А только я думала-думала и решила сказать тебе прямо, потому что так на сердце легче станет. И это тебе никаких прав надо мной не дает.
— Пойди выпей холодной воды, — ответил я и пошел прочь.
26 февраля.Странная история! Девчата пошли шушукаться между собой, и я кое от кого узнал, что опять хотят поднять бузу насчет капустников. Но самое главное, что я узнал, это то, что Сильва с ними заодно. С Сильвой я не разговаривал ни разу с тех пор, как задал ей вопрос (я хотел только принципиально выяснить), и видно, что она меня избегает.
Узнав про шушуканье, я посоветовался с Венькой Палкиным, и мы решили предпринять контрнаступление.
27 февраля.Я страшно рад и доволен собой. Почти весь февраль я просидел над докладом о китайских событиях, и Никпетож доклад очень похвалил.
А потом, кажется, я проследил за тем, кто писал анонимные письма. Это — Горохов Кешка, длинновязый такой и молчаливый парень из второй группы. А почему я думаю, что это он, — вот. Единственной нитью у меня в руках было письмо, которое получил папанька. А у нас в школе каждый приносил чернила с собой. Вот я стал прослеживать чернила у каждого. Эта работа была трудная, потому что каждый прячет чернила, как только напишет то, что надо. Поди-ка уследи. Но сегодня устроил штуку. Ворвался в математическую лабораторию, когда там занимались одни второгруппники без Алмакфиша, и закричал:
— Скорей давайте чернил, Алмакфиш просит!
И сам схватил первые попавшиеся чернила (конечно, Кешкины, я еще раньше заметил, что он ближе к двери сидит). И — дралка. Кешка мне вдогонку: «Да стой, погоди, мне писать нужно», — но я, не будь дурак, скорей в аудиторию, там у меня была приготовлена пустая склянка, отлил туда Кешкиных чернил и иду равнодушно обратно, отдаю Кешке чернила. Он на меня подозрительно посмотрел, но ничего не сказал. А я давно за ним наблюдаю и заметил, что как посмотрю на него, так он меняется в лице. И потом, он — единственный из второй группы, который бывал на капустниках. Чернила я сверил, а оказались очень похожи: лиловые как те, так и другие. Теперь проверить почерк — и дело в шляпе. Только это еще трудней, потому что письма-то написаны печатными буквами.
3 марта.Всеми правдами и неправдами мне удалось раздобыть тетрадку Кешки Горохова, и я занялся сличением почерков. В общем, мне показалось, что почерки письма и тетрадки похожи, и я пошел разговаривать с Кешкой. Я прямо начал:
— Кешка, это ты писал письма родителям?
Он даже весь изменился в лице и отвечает:
— Ты что, сволочь, с ума сошел?!
Я наподдал еще:
— Не бойся, я про тебя все знаю.
— Что ты знаешь? Что ты знаешь?
И замахал кулаками. Я сделал таинственный вид и ушел. Теперь, по психологии, он сам должен ко мне прийти и сознаться.
4 марта.Я здорово обмишулился. Дело было так. Я пошел сдавать к Никпетожу за январь, раскрыл книгу по истории — и вдруг вижу: там лежит записка. Я развернул и даже ахнул.
«Костя, по старому чувству тебя предупреждаю, что против тебя и Веньки Палкина готовится поход за капустники. Они все знают. Берегись».
Но ахнул-то я не от того, что там было написано, а оттого, что почерк, и печатные буквы, и чернила — все было то же самое. Значит, это не Кешка. После нашей чуть ли не драки станет меня Кешка предупреждать, да еще по какому-то «старому чувству»! Тогда я пошел к Никпетожу и вместо сдачи зачета спросил его:
— Николай Петрович, хорошо я делаю, что пытаюсь узнать, кто из ребят писал анонимные письма?
— А как вы это делаете?
— Слежу и потом делаю выводы.
— А зачем вы это делаете?
— А потому, что тот, кто писал, подводил товарищей.
— Видите, Рябцев, прежде всего брать на себя роль добровольного сыщика за товарищами — это роль совсем неблаговидная. Затем, ведь дело предано забвению, зачем же его опять воскрешать?
Я чуть было не брякнул, что дело опять всплывает, но вовремя прикусил язык.
Поиски я, пожалуй, и вправду прекращу: чуть было не попал в дурацкую историю с Кешкой Гороховым.
Но кто же писал письма и потом эту записку — мне?
7 марта.Я прочел Арцыбашева «Санин» и потом всю ночь опять не спал, и опять было фим-фом пик-пак. Теперь страшно болит голова, и я прямо не знаю, что делать. К Никпетожу, что ли, пойти. Неловко как-то. Скажет: «Объясняли вам на естественной, а вам все мало?» Да и не могу же я ему рассказать всего.
Плохо то, что все это отзывается на умственном положении. Я теперь дошел вот до чего. Взял тетрадку своего дневника, где было списано со стены про цель жизни, нашел то место, где я написал: «Вот буза-то» (это где говорилось про удовлетворение потребностей), — и зачеркнул, что сам написал. В самом деле, если человек принужден удовлетворять свои потребности не так, как все, он страдает. Страдает он и тогда, когда совсем не может удовлетворять потребностей. А жить и страдать — это стоит ли?
Но когда такие мысли пришли, я сейчас же спросил себя:
— А достойно это комсомольца — человека, идущего в авангарде молодежи? Потому что я хоть не комсомолец, а кандидат, но считаю себя убежденным коммунистом. Вообще, мне кажется, я совершил много плохого: тут и участие в капустниках, и то вранье, которое за этим последовало, а главное, конечно, — это половой вопрос. У буржуазии и интеллигенции половой вопрос разрешается как раз в такую сторону, как у меня. Что же, я — буржуй? Или я — интеллигент? Ни тем, ни другим себя не считаю, поэтому должен решать вопрос как-то по-другому.
12 марта.Я только что с заседания ячейки, которое было в фабричном клубе. Хотя сейчас поздно, но придется записать все, иначе можно забыть. На ячейку собралось человек полтораста, среди них — наших школьных ребят всего человек двадцать, а остальные — фабричные. Сначала было все как у нас, и даже еще скучнее. Информация райкома, потом — доклад бюро… Ребята (фабричные) начали от скуки бузить, и председатель их то и дело одергивал. Потом пошли текущие дела, и все навострили уши.
Там есть одна девчина, Гулькина, — так она подала заявление в ячейку, чтобы ей выдали средства на аборт. (Надо спросить у Сережки Блинова, что это за штука; это, кажется, как-то такое делают, что мужчина становится женщиной, и наоборот; новое изобретение медицины; вообще как-то так устраивают, что женщина не рожает детей.) И вот когда прочитали это заявление, поднялся в зале страшный шум: кто кричит — дать, а кто — не давать. Выступил секретарь ячейки Иванов, серьезный такой парень.
— Какие у нас, к шуту, средства, когда членские взносы поступают с опозданием на три месяца, хоть насильно отнимай!.. Откуда мы ей возьмем средства! что, всамделе, банк у нас, что ли?
Тут выскочила одна девчина, очень сердитая: она по всем вопросам выступает и каждый раз сердится.
— Это мы и будем каждой давать, это что же у нас будет? Одна за другой аборты начнут делать. А рожать кто будет? Пушкин рожать будет? Предлагаю конкретное: выдать ей книгу про аборты, пусть почитает.
Тут другие опять стали кричать:
— Дать! Дать!
Только, по-моему, они это для бузы, потому что секретарь сказал ведь русским языком, что средств нету. Тут еще одна девчина выскочила и говорит:
— Давать никак нельзя: во-первых, потому, что средств нету, во-вторых, рожать кому-нибудь надо, как уже говорили, а в-третьих, — и это самое главное, — от аборта она может умереть. Или ей может быть страшный вред. Она может остаться калекой на всю жизнь. Аборт далеко не каждый раз бывает удачный!
Раздались голоса, чтобы не давать. Но тут выступил опять Иванов и говорит:
— Как я уже сказал, из средств ячейки мы не можем дать никаких денег. Но, ребята, это решение: не давать и больше ничего — принимать нельзя. Разве не помните — Гулькиной другое заявление было, что ей жить негде. Что ей комнату надо дать или хоть угол. Тут нужно обследовать материальное положение Гулькиной, тем более что она приютилась на другом конце города. Конечно, не аборт, — пускай рожает, но отмахиваться все же нельзя: помочь надо. Комнату отыскать или что.
Проголосовали, выбрали комиссию обследовать материальное положение этой девчины, Гулькиной, и стали петь «Молодую гвардию»… Значит, конец.
Я домой шел один и все думал. Фабричная жизнь и работа ихней ячейки раньше мне представлялась какой-то особенной: ну вот как фабрика ночью бывает освещена огнями и вся так и полыхает. А оказывается, что их ребята так же любят бузить, как наши, да и в вопросах, поднимаемых на ячейке, не так уже трудно разобраться. А я-то думал, что придется долго привыкать и присматриваться, прежде чем что-нибудь поймешь.