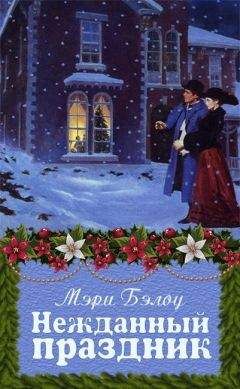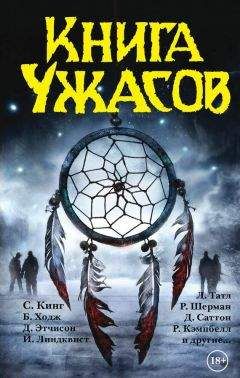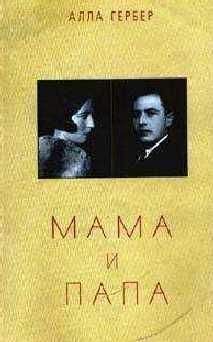Хольгер Пукк - Виллу-филателист
Я не хотел выглядеть несмышленым мальчишкой и ответил, подыгрывая тону Олева:
— Ничего, недурненькая!
— А ты что думаешь! Первый сорт! — заверил Олев, по-прежнему широко смеясь.
В тот миг я позавидовал ему. «Первый сорт». Надо же так сказать, мне это показалось совсем по-мужски.
Да, сомнений не было. На скамейке передо мной сидела та самая девчонка. Все было знакомо: волосы, лицо, глаза. Только улыбки не было. Были красные от слез глаза, размазанные щеки и усталый, словно бы увядший вид.
Ребята вскочили, встали возле меня и вытянули шеи, чтобы разглядеть, что там на этом клочке бумаги написано. Я оттолкнул их и протянул листок девчонке. Она снова сжала бумажку в кулаке и уронила руку на колени. Это выглядело так, будто ей было абсолютно все равно, у нее записка или же у кого. Мы и наши приставания для нее не существовали.
И тут, как мне казалось, я понял, в чем причина великого девичьего горя. Она хочет получить свою фотографию, но ей негде взять десять рублей! Конечно, глупо, что она страдает из-за какой-то карточки. Плюнула бы на нее! Ну если уж она такая дурочка, то…
Перед моими глазами ясно вставало ее радостно улыбающееся лицо, которое смотрело на меня в прихожей Олева. И я не смог дольше глядеть на это побитое существо здесь, на скамейке. Это было нечто большее, чем обычное девчачье хныканье.
— Пошли! — сказал я ребятам.
Они что-то проворчали в ответ, но все же последовали за мной.
Парк я пробежал на одном дыхании. Отчего, и сам не знаю. Наверное, потому, чтобы ничего не говорить и не объяснять.
Ребята отстали. Я не стал их дожидаться и на своей улице.
Пошел сразу к Олеву.
О чем я думал, взбегая по лестнице, и думал ли я вообще особо о чем-нибудь, сказать трудно. Наверное, я просто понимал, что это подло требовать за фотографию деньги. В классе мы страшно не любили парня, который только за медяки давал списывать. Однажды я даже намял ему бока.
Хотя я не считался с девчонками и их настроениями, видимо, я все же почувствовал, что несчастная девчонка на скамейке — явление неестественное. А радость, которая была в ее улыбке на фотографии, и правильная и добрая.
Как бы там ни было, но на звонок в квартиру Олева я нажал не раздумывая.
У Олева была своя комната. Первое, что я увидел, — это пришпиленные над кушеткой фотографии девушек. Раньше их там не было.
Еще я заметил, что только фотография той девчонки была настоящая. Все другие были вырезаны из журналов.
Я не знал, что делать, и наугад спросил:
— Чего ты здесь делаешь?
— Зубрю, — кивнул Олев в сторону стола. Он был загражден учебниками и тетрадями. Виднелся какой-то незаконченный черновик и раскрытый словарь.
Все свидетельствовало об усердной работе.
С какой-то невесть откуда взявшейся неожиданной иронией я бросил:
— В ослы записался…
— Чего мелешь! Десятый ведь класс! Это не твой седьмой, заглянул одним глазом — и дело в шляпе. — Олев насупился.
Мне вдруг показалось, что он вовсе и не такой уж мужественный и таинственный. Оказалось, что его можно увидеть насквозь, как и всякого другого. И я смело сказал:
— Верни эту фотографию!
Олев глянул в сторону моей вытянутой руки, на мгновение смутился, но тут же высокомерно фыркнул:
— Что, захотелось себе взять?
И эта фраза вдруг подсказала мне, что я, собственно, должен делать. На обещание, что верну, Олев может наплевать. Если же фотография будет в моих руках, то…
— Да, хочу! — ответил я без смущения.
Олев рассмеялся.
— Сам заведи себе крошку! Не клянчь у других!
— Чего ты вытягиваешь эту десятку? — спросил я с неожиданной откровенностью.
Можно сказать, что Олев прямо-таки отскочил в сторону. Отскочил и в замешательстве уставился на меня.
— Ах, так… Значит, ты знаешь… — пробормотал он как-то по-свойски и примирительно. — Хочешь войти в долю? Это можно! По-дружески!
Я почувствовал себя на удивление спокойно и уверенно.
— Давай! — коротко произнес я.
— А если не дам, что тогда?
Уверенность моя улетучилась. Я был загнан в тупик.
В самом деле! Что я тогда сделаю? Поплетусь, поджав хвост, вон?
— Тогда сам возьму!
Я вскочил на кушетку и сорвал фотографию. Кнопки с шорохом покатились на пол.
— Ну, знаешь…
Большего Олев сказать не успел. Я оттолкнул его и бросился к двери.
Он и не пытался остановить меня. Не говоря уже о погоне.
Почему я побежал в парк, наверное, ясно и без объяснений.
Девчушка сидела там же, где мы ее оставили. Под ее ногами среди осенних листьев валялись белые клочки бумаги. Письма в ее кулаке уже не было. А так все по-старому… Опущенная голова, руки на коленях.
— Вот, фотография твоя! — просипел я и бросил карточку ей прямо на руки.
Трудно сказать, чего я ожидал. Радостного восклицания, облегченного вздоха, неожиданно расцветшей открытой улыбки, слов благодарности? Невозможно сказать точно. Но все же чего-то подобного. Какого-нибудь определенного знака, неважно сколь малого, но чего-то, свидетельствующего о том, что с плеч свалился груз.
Ничего подобного не случилось!
Я стоял как столб и смотрел на девчушку. Выражение ее лица нисколько не изменилось.
— Ну, чего ты еще дуешься? — крикнул я удивленно и в то же время зло.
На ее лице появился слабый отблеск улыбки, той, с фотографии. Она отвела волосы с глаз, подняла руку к моему рукаву и сказала:
— Да, конечно… Спасибо! Будь добр, дай мне еще немного побыть одной…
Я с ходу повернул и ушел. Злой и одновременно несчастный. Я же сделал все, что было в моих силах. И все же что-то не смог…
Наша троица распалась, потому что я стал понимать, что существуют радости и горести, которых я еще не постиг, но в которых нельзя копаться другим.
В одиночестве
Туу-ту-ту-туу! Туу-ту-ту-туу!
Это, конечно, Длинный Тыну. Стоит на флаговой площадке, рука на поясе и трубит тревогу! Другие «офицеры» таких складных звуков из горна не извлекут. Сами все пионерские вожаки, а иной, кроме всхлипа, ничего не выдавит.
Да, стоит и трубит. Раструб горна движется в такт звукам — вверх-вниз, вверх-вниз… А солнце сверкает на горне так ярко, что глаза сами щурятся.
Я так ясно видел эту картину, будто стоял у сигнальной мачты. Даже глаза, наверное, сощурил. Хотя и был километра за два от Тыну, от флаговой площадки и сверкавшего горна. Сидел на крутом берегу под двуверхой сосной и вовсю болтал ногами. Внизу в лощине вилась речушка, сзади за мной начинался дремучий лес, по бокам от меня цвели какие-то желтые цветы.
И представьте себе: ничего больше! Ах, да! Еще солнце глядело откуда-то сверху меж большущих облаков.
Я был ужасно зол. Дальше просто некуда. И колотил пятками в рыхлый песчаный берег. Отваливавшиеся комки катились, поскакивая на уступах, и исчезали в воде.
Злился я ужасно. И лучше было не думать о лагере. Потому что несправедливость пошла оттуда. Только разве всегда можешь делать то, что лучше! Во мне словно жил какой-то автоматический экран, и он продолжал работать. Совершенно по своим законам, не думая обо мне. И без конца показывал мне горн, и Тыну, и флаговую площадку. Потом я увидел еще, как Лилли поднимает на мачту пестрый флаг. Желтые и черные полосы в ряд и впрямь вызывают тревогу. Да, хитрец был тот, кто выдумал этот тревожный флаг.
Горн умолк. Флаг полощется на ветру. Теперь растревожились домики. Поднялась такая возня и беготня, будто вспыхнул пожар. Кто кричит, кто ругается. Девчонки визжат, словно им в постель сунули по лягушке.
Двери хлопают. Стекла на балконах начинают звенеть. Старые деревянные ступеньки грохочут и скрипят. Двери веранды распахиваются настежь и наружу выдавливается клубок человеческих голов, рук, ног. Ребята, конечно, одним махом перелетают через перила. Девчонки стремглав — топ-топ-топ — катятся по ступенькам. Кое-кто приглаживает на бегу волосы. Будто во время этой тревоги вообще имеет значение, какая у тебя прическа. Но девчонки остаются девчонками. Им хоть бомбу клади под кровать, они все равно перед вечным покоем станут причесываться. Или завяжут бантики.
Флаговая площадка вдруг становится как базар. Председатели отрядов созывают своих. Те носятся туда-сюда. Звеньевые проверяют, кто отсутствует. Некоторые бегут назад к домикам. Звать и подгонять. Другие кричат, чтобы не бежали: чего доброго, сами искальщики пропадут… Какая суматоха! Возбуждение, толкотня-беготня… А что дальше будет?..
Я снова долбил вовсю пятками по уступу. Будто взбрыкивающая лошадь. От берега отвалился кусок красного песчаника. И покатился кувырком по выступам. Вспыхнул красной пылью и пропал из глаз.
Ох и буза там! Вот было бы дел… А я должен сидеть здесь! Это я-то! Пять писем в кармане и пять тонн злости под ним за пазухой! Я, человек, который и в бутылке не постоит спокойно, как сказал сам Длинный Тыну. Но почему я? Кому вообще пришла в голову такая чушь? Или у нас в лагере сопляков мало? Какому-нибудь желторотику было бы в самый раз корячиться на этих сосновых корнях. Азимут шестьдесят и пять голубых конвертов за пазухой.