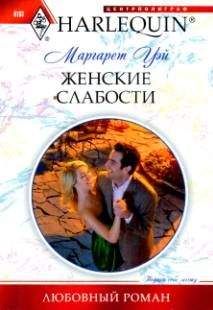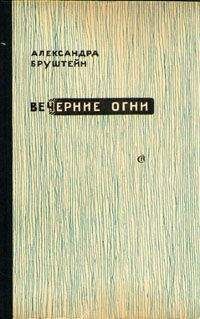Александра Бруштейн - Дорога уходит в даль...
Когда я читаю про себя, глазами, это описание гибели Пети, я — что таить? — всегда плачу. Но Павлу Григорьевичу я читаю это даже без дрожи в голосе: что-то подсказывает мне, что Павел Григорьевич, как папа, «ненавидит плакс».
— Ай да Саша Яновская! — Павел Григорьевич, видимо, доволен. — Читаете вы хорошо. Ну, а как пишете?
— Хуже… Неважно пишу… — признаюсь я.
Павел Григорьевич диктует мне несколько предложений. Потом смотрит, что я написала.
— Ошибок, правда, нет, но почерк! Ох, какой почерк! Как курица лапкой нашкарябала…
Павел Григорьевич задает мне несколько арифметических задач. Решаю я их не очень блестяще. В общем, Павел Григорьевич почему-то устраивает мне настоящий экзамен.
В разгар моих арифметических затруднений в комнату входит папа.
— Ну как? — спрашивает он у Павла Григорьевича. — Познакомились с моей Пуговкой?
— Даже, кажется, подружились! Правда, Саша? И знает она довольно много… Я приду завтра в десять утра — это будет наш первый урок. Думаю, что в августе ее примут в гимназию…
Так вот зачем приходил Павел Григорьевич и расспрашивал; что я умею! Какой хитрющий — я и не поняла ничего… Я очень радуюсь, что у меня будет такой учитель, с таким милым лицом, похожим на круглую луну! И столько он умеет такого, чего никто не умеет, и в стольких местах побывал, где никто не бывал!..
Но после ухода Павла Григорьевича у нас разыгрывается настоящая трагедия.
Все мы сели за стол, даже мама, накинув халат, сидит с нами. Из кухни с суповой миской в руках появляется Юзефа. Она ставит миску на обеденный стол с такой яростью, что по поверхности супа идут мелкие волны. Потом низко кланяется сперва папе, потом маме и мрачно говорит:
— Прощайте! Ухожу от вас…
— Почему? — спрашивают одновременно и папа и мама, не выражая, впрочем, никакого испуга или отчаяния, потому что Юзефа задает такие представления довольно часто.
— Ухожу, и все! Не хочу арештантов видеть!
И Юзефа начинает плакать, горестно качаясь из стороны в сторону. Я бросаюсь к ней:
— Юзенька, дорогая! Не уходи!
Обнимая меня и качаясь со мной, Юзефа причитает:
— Ох ты, моя курочка, беленькая моя, шурпатенькая моя! Я тебя берегла, я тебя растила, я тебя годовала-пестовала… Нет, плоха Юзефа — привезли немкиню: «На, немкиня, мордуй ребенка!» А теперь еще и арештанта позвали: «На, арештант, учи ребенка!» А уж арештант, ен нау-у-учит! — завывает Юзефа.
— Перестаньте, Юзефо! — стучит папа вилкой о стол. — Какой арештант? Что вы такое плетете?
— Арештант! Арештант! — кричит Юзефа с азартом. — И не стукайте на меня вилкой! Мне соседская Ольга сказала: «Наняли твои господа учителя-арештанта! Его из студентов прогнали, ен против самого царя бунтовался! Три года у Сибири держали — у самом снегу жил, арештант! И в бога не веруеть, вот какой…»
Юзефа плачет, вытирая глаза одним концом своего платка, а нос — другим концом.
А папа и мама смеются!
Я совсем теряюсь: кому же верить?
Юзефа перестает плакать так же неожиданно, как начала. Похватав со стола опустевшие тарелки и суповую миску, она уносит их на кухню. Затем возвращается и ставит на стол второе блюдо.
— Давайте расчет, ухожу!
— Глупости! — посмеивается папа. — Я вас знаю, никуда вы не уйдете…
— А може, и не уйду… — неожиданно спокойно соглашается Юзефа. — Ребенок несчастный, хиба ж я ее брошу? Но-о-о-о только! — Юзефа грозно поднимает палец. — Як себе хочете, а икону у меня в кухне снять не дам!
— Да кто ее снимать будет, вашу икону, Юзефа? — спрашивает мама.
— Тот арештант снимет, учитель ваш новый! — И Юзефа шумно убегает на кухню.
Конечно, вопросов у меня целая телега! Кто такой Павел Григорьевич, почему он все умеет, почему он жил там, где люди не живут, за что Юзефа называет его «арештант»? И еще, и еще, и еще…
Но папа ложится спать — не у кого спрашивать (мама таких вещей не знает). А главное, у меня самой нет времени: надо бежать к Юльке — наверно, Томашова уже вернулась с ней домой.
Я кладу в один карман все бумажные фигурки из «Ромео и Джульетты», за вычетом утопленных мной в ведре супругов Монтекки и Капулетти. В другой карман я прячу все лакомства, какие я накопила для Юльки со вчерашнего вечера: яблоко, три печенья, одну шоколадную конфету и несколько леденцовых «ландринок» (одну, шоколадную, я не выдержала — съела вчера сама). Мчусь к Юльке стремглав… В голове нет-нет да мелькает мысль: а вдруг Острабрамская божия матерь сотворила чудо — исцелила Юльку? Вдруг Юлька уже ходит, как все люди?
Еще со двора я вижу, что ставень над погребом, где живет Юлька, открыт: они уже дома! Очень осторожно спускаюсь по лестнице — во-первых, чтоб не упасть, а во-вторых, я все-таки побаиваюсь Юлькиной мамы: вдруг она меня прогонит?
Но Юлькина мама встречает меня неожиданно ласково. Правда, она на меня не смотрит — она не отрывает глаз от Юльки, которая лежит на топчане так же, как и вчера. Говорит Юлькина мама тоже не со мной, а с Юлькой, но говорит обо мне.
— Юлечко, сердце мое любимое! Вот и подружка твоя пришла… Весь вчерашний вечер ты ее поминала… Юлечко, коханочка моя, посмотри на свою подружку! Вот она здесь — видишь?
Но Юлька лежит неподвижно, закинув голову назад. Не шевелится, ничего не говорит.
Я протягиваю ей яблоко.
— Смотри, Юлечко, — яблоко! Какое яблоко! Хочешь? Скушай шматочек яблока, рыбка моя! — умоляет Томашова.
Рот Юльки полуоткрыт, видны передние зубки, надетые друг на друга «набекрень». Но Юлька не ест яблока, она как будто даже не видит его! Глаза ее открыты, но не узнают никого.
Где я видела такие глаза, словно затянутые пленочкой? Ах да, летом, на даче, мальчики поймали сову, и она смотрела не видя, как слепая…
— Смотри, девочка! — показывает мне Юлькина мать. — Мы с самого утра были под Острой Брамой, мы целый день молились, и вот какие у Юлечки стали розовенькие щечки… Как цветы в саду… Она выздоровеет, я тебе говорю, выздоровеет! Посмотри, какие у нее розочки на щечках!
Я дотрагиваюсь рукой до Юлькиной щеки — она горячая-горячая, от нее пышет жаром!
Вдруг Юлька поворачивает голову и говорит сипло, еле слышно:
— Пить… Мамця, пить…
Но тут же ее всю сотрясает такой лающий, хриплый кашель, что даже мне становится понятно: Юлька больна. Очень больна…
— Перепелочка моя… Попей, попей. Тут соседи, дай им боже здоровья, чаю принесли… Сладкий, тепленький… Пей, доченька…
Юлька с трудом отпивает глоток — и снова откидывается на подушку. И снова глаза ее не видят. И все снова из груди ее рвется этот страшный кашель, а голос Томашовой, словно желая потушить его огонь, льет и льет ласковые польские слова, нежное воркование материнской боли. Но и Томашова понимает, что случилась новая беда.
— Матерь божия! — говорит Томашова с отчаянием. — Матерь божия, почему ты не пожалела моего ребенка? Сколько часов лежали мы перед тобой на камнях!.. Как я молилась, как я плакала! А звездочка моя еще хуже заболела, матерь божия!..
Когда папа, проснувшись, открывает глаза, я, по обыкновению, уже сижу около дивана и жду его пробуждения. Но на этот раз я ни о чем его не спрашиваю, я только прошу:
— Карболочка… пойдем к Юльке! Юлька ужасно больна…
— А реветь зачем? — ворчит папа, привычно быстро одеваясь… — Я с утра до ночи только то и делаю, что хожу к Юлькам, Манькам, Гришкам, и незачем для этого плакать!
Когда мы подходим к погребу Томашовой, я предупреждаю:
— Осторожно, папа… Там такая странная лестница…
— Подумаешь! — огрызается пала. — Я и не по таким еще хожу! Я привык.
Погреб Томашовой полон людей. Все соседи жалеют Юльку, и все дают медицинские советы! Папа просит всех посторонних уйти. Все расходятся.
— Пане доктоже… — виновато говорит Томашова. — У нас тут не светло… — И она показывает на слабенький огонек ночника.
— А я со своей люстрой хожу. — Папа достает из сумки свечу, зажигает ее и подает Томашовой. — Посветите, пожалуйста.
Через полчаса мы с папой идем домой.
— Папа… — прошу я. — Скажи что-нибудь!
Папа отвечает не сразу.
— Если слона положить чуть ли не на целый день на холодные камни, так и слон простудится… Как бы не оказалось воспаление легких у твоей Юльки!.. Да еще крупозное.
Я не спрашиваю, что такое воспаление легких, да еще крупозное… Я понимаю: это очень плохо.
Глава восьмая. ЮЛЬКА БОЛЬНА
Папины опасения в самом деле подтверждаются: с Юлькой плохо. У нее крупозное воспаление легких. Уже несколько дней Юлька горит огнем, температура все время около сорока градусов — то чуть-чуть ниже этого, то чуть-чуть выше.
— Свечечка моя! — горюет над Юлькой Томашова. — Догорает моя свечечка!..
Кашель продолжается, мучительный, с острым колотьем в боку. Те румяные «розочки» на Юлькиных щеках, которым Томашова так радовалась в первый день болезни, исчезли. Юлька очень бледна, почти желтая. Она ничего не говорит, только порой просит пить, иногда без слов, лишь шевеля сухими губами. Юзефа приносит Юльке от нас бульон, молоко, клюквенный морс, который Юлька пьет словно бы даже с удовольствием. Чаще всего Юлька в полусознании, порою вовсе в беспамятстве, иногда бредит: бормочет бессвязно, зовет свою «мамцю».