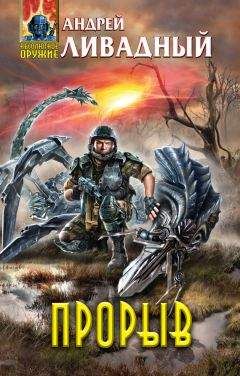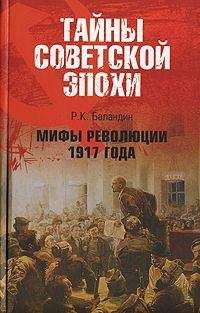Василий Радич - Казацкие были дедушки Григория Мироныча
«Ясновельможнейший мосце, хане крымский со многими ордами, близкий наш сосед!» — писали низовые рыцари. — «Не мыслили бы мы, войско низовое запорожское, входить в войну и неприязнь с вашею ханскою милостью и со всем крымским панством, если бы не увидели начала её с вашей стороны»…
Дальше указывалось на вероломное нападение янычар, и рядом с этим вспоминались былые подвиги запорожцев. Напомнили сичевики хану подвиги Самуся Кошки, атамана, воевавшего с мусульманами на Черном море; припомнили поход Богданка, морской поход на челнах Сагайдачного, взявшего штурмом Кафу; не забыли они ни Богдана Хмеля, ни Сулимы, бивших мусульман и на суше, и на море.
— Пришел я поклон отдать пану кошевому, — обратился Тарас Гачок к атаману, отвесив ему низкий, поясной поклон.
— Заскучали, братику, в курени, потянуло до зимовника? — спросил с добродушной улыбкой Сирко.
— Потянуло, пане-атамане… Не привык я без дела сидеть…
— Вот я и сам не люблю сложа руки сидеть… Хотелось бы пчелок своих посмотреть.
— Я до пана-атамана с просьбой, — после паузы выговорил дед.
— А что за просьба?
— Тут привезли мы из Крыма раненого казака; тяжко он ранен, и сечевые цырюльники не помогут ему. А если б я его осторожно на челне довез до своей хаты, да попользовал травами, то он бы, может, к осени, с Божьей помощью, и на коня сел.
— Раненый — родич дидуся? — поинтересовался кошевой.
— Нет, пане-атамане, я его так давно знаю… Жалко хлопца, добре он бился в Крыму… один за пятерых работал…
— А зовут его как?
— Микола Кавун.
— Ну, что ж, пусть будет по-вашему, забирайте своего Кавуна.
В тот же день дед продал коня, приобрел ходкий челнок и, починив оснастку, пустился в путь-дорогу. Челнок легко скользил по днепровской зыби. Тарас сидел на корме, а веслами работали три молодым казака и инок Алеша, решивший вернуться в монастырь.
На дне челна, ближе к носовой части, лежал раненый Микола. Товарищи устроили ему удобное ложе, но раны его горели огнем, и из груди его вырывались слабые стоны. К концу пути жар усилился, сознание начало мутиться, и раненому все казалось, что он стоит посреди сечевого Майдана, привязанный к позорному столбу, а кругом волнуется целое море казацких голов… Это живое море вдруг застыло и замерло… На майдан вышел сам кошевой с куренными атаманами и всей войсковой старшиной. «За измену товариществу — смерть!» — раздается чей-то грозный голос… Раненый начинает метаться и вытягивает правую руку, как бы желая, защититься от грозящего удара.
— Это я провел янычар! — вскрикнул Микола, с ужасом глядя на лица гребцов… Ну да, я… Мороз трещал, да мороз… они все шли, шли… А месяц смеялся… и зорьки смеялись… А янычары шли к куреням… — Больной начал так метаться, что его должны были держать.
— Когда б скорей добраться до хаты, — сказал старик, налегая плечом на свое длинное правило (рулевое весло).
Перед заходом солнца вдали показался остров посреди реки. Среди зелени на нем белела хатка старого запорожца. Гребцы приободрились, и скоро челн врезался в песчаную отмель. Раненого бережно перенесли на берег и опустили на сухой, нагретый солнцем песок. Очутившись на земле, он сразу успокоился, открыл глаза и обвел окружающих товарищей грустным, задумчивым взглядом. Сознание вернулось к нему, и из его израненой груди больше не вырывалось ни стонов, ни вздохов, силой великой казак сумел подавить страдание.
— Братику! — произнес он тихо, и взгляд его остановился.
Алексий опустился возле на колени.
— Братику, мне уже не встретить завтра солнца… А ты, друже, будешь жить… Облегчи мою душу… Когда будешь на Украйне, разыщи мою старую неньку и скажи ей, что я добре бился с татарами, что я… хотел положить душу за братьев своих и умер, как добрый казак…
У него еще хватило сил передать, где живут его родители. Затем, раненый запрокинул голову, и его усталые веки смежились с тем, чтобы больше не раскрываться.
Он уже не видел, как пурпурное солнце потонуло в розовой степи, как алым полымем вспыхнули днепровские стремнины; не видел он, как гаснут вечерние облака и в быстро темнеющем небе вспыхивают трепетные звёзды; не слышал он, как шепчется прибрежный камыш с ленивой днепровской волной, как скользят сизые чайки над гладью речною, как плещется рыба в зеркальных заливах… Погас последний солнечный луч, а вместе с ним догорела и жизнь молодая.
— Был казак — нема казака, пусть же ему земля будет пером! — сказал в раздумье старый сечевик снимая шапку. Запорожцы последовали его примеру.
Сумерки надвигались быстро, и по темному не рассыпались мириады звёзд.
Глава V. По синим волнам
аступившее утро было пасмурное, но теплое, даже жаркое. В днепровских заливах не курились сизые туманы, и всюду царила какая-то раздражающая, зловещая тишина. Даже прибрежные камыши прекратили свой немолчный шепот и хмуро гляделись в недвижное зеркало застывших вод. В низком небе реяли серые тучки; они отражались в реке, и казалось, что старый Днепр одел гладко отполированную стальную броню и теперь поджидает невидимого врага… Дождь давно не перепадал. Уныло глядела пожелтевшая листва и выжженные травы; земля местами потрескалась, а сухой степной ветер не освежал лица, принося новые струи знойного, раскаленного воздуха.
Тихо было и в сечевом городке; но стоило заглянуть в курени, побродить по уличкам, ведущим майдану, чтобы сейчас же заметить необычайное возбуждение, охватившее все «товариство»: запорожцы переходили из куреня в курень, составляли группы среди улицы, собирались в кучки на площади и о чем-то толковали. Все говорили тихо, чинно, было видно, что они чего-то ждут, что они чем-то взволнованы.
Что же взволновало низовых лыцарей?.. Быть может, к ним прилетали вести о вторжении крымской орды в украинские города и села?.. Или турецкий султан с сильным войском грозит погромом отчизне?
Или зазнавшееся панство обагрило родные нивы новыми потоками крови?.. Наконец, может, гетман в угоду королю поступился старыми вольностями казачьими и вместе с сеймом строит козни запорожскому кошу?..
Нет, быстроногие крымские скакуны не покидали своих пастбищ, и султан сидит смирно на берегу Босфора; панство же если и совершает злодейства, то эти злодейства ничем не превосходят прежние, хорошо знакомые низовому лыцарству, производившему не раз кровавую расплату; молчит и пан гетман, упорно молчит, думая никому неведомую думу.
О чем же толкуют запорожцы, составляя все новые и новые группы?..
— Ты бачив его, братику? — спрашивает старый казак.
— Бачив… вот как тебя бачу, — отвечал высокий черноусый товарищ.
— Как же он выглядит?..
— Кто?..
— Да он!.. Нечипор Коцюба… Мы ж про кого?..
— Про Коцюбу, — равнодушно отвечает вопрошаемый; но в эту минуту в круг просовывается новая голова с лихо закрученными усами. Новый член компании куда словоохотливей своего предшественника.
— Я его бачив своими глазами, вот так, как вас, панове, — начинает он скороговоркой, будто опасаясь, что его сейчас перебьют. — В куренях уже спали, и на улицах было пусто… Надоело мне ворочаться с боку на бок, увидел я, что в таком пекле не заснешь, и пошкандыбал себе к берегу, все ж там хоть и комарья допекает, да жары той нет… Пришел до воды, слышу на пароме голоса… Я туда… Паромный мне и рассказывает, что сейчас с того берега доставили человека, который говорит, что он бежал из турецкой неволи и называет себя Коцюбой… Его отправили к куренному атаману… Я знавал Коцюбу и захотел сам его повидать. Прибегаю в курень, а там уже все товарищи проснулись, зажгли огонь и окружили нового гостя. Посмотрел я на него, и сердце мое перевернулось от жалости… Какой казак был?.. На всю губу казак!.. А что из него сделала неволя?! Стариком стал… Худой, как щепка, очи ввалились, голова в плечи ушла, и весь он как-то трусится. Скажет слово-другое и задрожит… Много муки принял сердечный, ах, как много!
— Как же он ушел из неволи? — интересуются окружающие.
— А товарищи в Туретчине остались? — слышатся со всех сторон вопросы.
— Остались… Для слепцов нет дороги, а враг их давно ослепил… Коцюба остался зрячим да Хведько Корж… Вот они вместе и ушли. Только бедный Корж не вынес дороги, пристал и в плавнях отдал Богу душу. Пусть ему земля пером будет!..
— А много наших осталось там?
— Сорок человек… Горе им, сиромахам!..
— Грешно оставлять христианские души в басурманской неволе, — заметил старик, сдвигая шапку на затылок, причем обнажился его высокий морщинистый лоб, испещренный шрамами и рубцами.
— Застил им ворог свет Божий, так пусть же хоть кости их будут зарыты в родную землю, — разом откликнулось несколько заслуженных куренных товарищей.