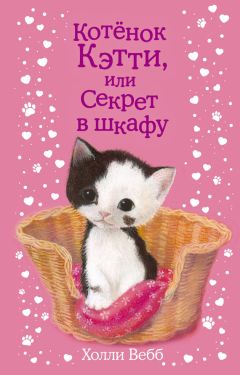Оскар Хавкин - Всегда вместе
13. За честь класса
Интернатцы были взбудоражены событиями последних дней.
Разобраться в ребячьей разноголосице чувств и мнений было нелегко.
Сеня Мишарин жалел Зою и осуждал Кешу.
Борис Зырянов принял сторону Кеши: «Я бы за такое дело не то что Митьку — я бы по господу богу прямой наводкой грохнул!» А приятеля своего, Антона, Борис обещал вздуть, если тот не оставит Зою Вихреву в покое.
Ваня Гладких обвинял всех: и Зою, и Антона, и Кешу, и Митеньку, и особенно Полю Бирюлину: «секретарь комсомольской организации, умная девочка, а твердости никакой».
Толя Чернобородов два дня ходил, углубившись в свои мысли, и наконец прочитал вслух стихотворение:
Зрей наша дружба,
Как колос ржи,
Цени нашу дружбу,
Ей дорожи!
Робкое замечание Сени Мишарина, что правильнее было бы не «ей дорожи», а «ею дорожи», Чернобородов опроверг тем, что Сеня отстал на столетие и что «у Маяковского еще смелее встречаются выражения».
Предположение Трофима Зубарева, будто Толя хотел сказать «ей-ей дорожи», было с негодованием отвергнуто поэтом.
Между тем, возвращению Зои были рады все: и те, кто сочувствовал ей, и те, кто осуждал.
Вернулись лыжники около полуночи, но интернатцы еще не спали.
— Получайте ваш багаж, — сказал Трофим, задвигая под Зоину койку полосатенький сундучок. — Квитанции не нужно. Благодарностей тоже… Почтенный кроссмен, — обратился он к Тине, — пойдемте умываться и спать.
Поля Бирюлина села на Зоину койку, а Линда устроилась на полу рядом с подругой, положив руки на ее колени. Они стали наперебой рассказывать о драке между Кешей и Митей, о новом комсомольском собрании.
— Учителя все пришли, и дед Боровиков, и Владимир Афанасьевич, и Семен Степанович… — сообщала Линда.
— А Семен Степанович зачем?
— А он в самом начале собрания встал и говорит: «Сейчас мой сын Сережа внесет ясность в историю с дневником». И Сережа признался, что Митин дневник он взял на день почитать, хотел с Митей поговорить, и духу нехватило. Рассказал про дневник Кеше, а Кеша, без всякого умысла, — Платону Сергеевичу…
— А Платон Сергеевич какой строгий оказался. А мы-то его все «тихоней» звали.
— Митя пришел весь перевязанный, охал, охал, а потом признался, что нехорошо поступил… Владимир Афанасьевич его при всех отчитал: «Для нас, для коммунистов, — говорил, — коллектив — все!»
— Кеша бледный-бледный, едва говорит…
Зоя слушала все это, не спорила, по обыкновению, и улыбалась каким-то своим мыслям. Ее подруги переглядывались: «Да Зоя ли это?»
— Тебя, девочка, — материнским тоном сказала Поля Бирюлина, — тоже надо отругать. Романов начиталась. Обиделась, что поругали! Весь рудник перевернула… Ну, зачем убежала?
Линда испуганно взглянула на Полю: «Молчи, зачем затеваешь разговор!»
Но Зоя не вспыхнула, как обычно. Она сладко зевнула и сонно пробормотала:
— Хоть бы кто Антошку за меня отчитал, вот спасибо бы сказала! — Она положила голову на Полино плечо и добавила совсем тихо: — А у Троши какие глаза… добрые-добрые!.. Ох, как я устала, девочки…
И заснула.
Поля Бирюлина все еще что-то доказывала подруге, а грудь Зои уже мерно вздымалась, и Линда, глядя на нее снизу вверх, загадочно улыбалась.
— Ты бы хоть сегодня не улыбалась, — наставительно сказала Поля. — Ты-то усвоила что-нибудь? Будешь на Митю влиять как комсомолка?
— Усвоила, — кротко ответила Линда. — Буду. А вот Зоинька уже давно спит.
Девочки осторожно раздели подругу и уложили ее спать.
Троше Зубареву и Тине Ойкину не пришлось так скоро заснуть.
В мальчишеской комнате спорили бурно, азартно, словно продолжалось сегодняшнее, второе на этой неделе, комсомольское собрание.
— Правильно сказал Платон Сергеевич, — говорил Сеня Мишарин. — Нечего силу показывать на своих товарищах.
— А ты вдумайся, — не уступал Зырянов, — из-за чего его Кеша! Кеша зря не дерется! Если бы тебя так обозвали…
— Тоже мне рыцари большого кулака! — возмутился Сеня. — Моральное воздействие нужно, а не расправа кулаком!
— На кого что действует! — глубокомысленно заметил Антон.
— Это верно, — с невинным видом подхватывает Ванюша Гладких. — Если Антон начнет пилить, то не то что до Урюма — до Байкала рад без оглядки бежать. Ты хоть раз по-товарищески поговорил с Зоей? Все насмешками!
Раздетые до пояса, растирая себя докрасна белыми вафельными полотенцами, вошли Ойкин и Зубарев.
Им рассказали о событиях и собрании со всеми подробностями.
— Знаете, ребята, — сказал Толя, — очень меня затронули слова Варвары Ивановны. «Плохо, — спрашивает, — когда читают чужие дневники?» — «Плохо», отвечает. «Плохо, — опять спрашивает, — когда в этом боятся признаться? Плохо. Плохо, когда одни не уважают коллектив, а другие прибегают к драке как к спасительному средству? Безусловно плохо». Мы сидим, и всем, наверное, стало грустно и обидно. Все плохо да плохо… А я смотрю — лицо у Варвары Ивановны строгое, а глаза не то чтобы веселые, но со светом каким-то особенным…
— Она в душе добрая, — перебил Ваня, — только не любит показывать доброту.
— Что же Варвара Ивановна еще сказала? — нетерпеливо спросил Трофим.
— Она, значит, говорит: «А теперь о хорошем. Хорошо, что вы все знаете, что Кеша не брал дневника. Хорошо, что Сережа нашел в себе мужество признаться в своей ошибке. Хорошо, что Митя недоволен собой и стремится исправиться. Хорошо, что мы, коллектив советских школьников, прямо говорим друг другу о своих ошибках».
Тиня слушал разговор, и его серые глаза перебегали с одного на другого.
— Люблю Варвару Ивановну, — сказал он: — строгая она, но справедливая.
— Вот Поля наша не годится в секретари, — заметил Борис. — Нет у нее строгости.
— Борис тоскует по узде, — сострил Зубарев.
Тиня Ойкин, сидевший в задумчивости на скамейке, вдруг встрепенулся.
— Троша, — сказал он, — по-моему, ты глупо сострил… Ребята, знаете, о чем я думаю? Вот мы учимся вместе четыре месяца. Пришли из разных мест: Ваня — из Первомайского, Захар — из Ковыхты, Антон — из Озерков, Кеша здесь учился… Нам три года вместе учиться… А кто из нас думает о чести класса? Ведь это главное!
И тут, словно Тиня высказал мысли каждого, заговорили все.
— Надо, чтобы стыдно было за каждую плохую отметку, — сказал Толя.
— Я еще в пятом классе, — вспомнил Борис, — вместо «Христофор Колумб» сказал «Светофор Колумб». До сих пор краснею, как вспомню.
— Ага! — заметил Зубарев. — А Толя в позапрошлом году изрек: «Море со всех сторон окружено водой». Вот это поэзия! Половину урока сорвал — всё никак не могли успокоиться.
Ребята расхохотались.
— Давайте предложим всему классу, — сказал Тиня, — чтобы с плохими отметками в геологический поход никого не брать!
— Сеня уже впереди всех! — Трофим, застегивая рубашку, подошел к Мишарину. — Ты что, собираешься к весне стать академиком?
Сеня обложился книгами. Он заглядывал то в одну, то в другую и заносил что то в записную книжку.
Зубарев перелистывал книги.
— «Определитель растений», «Как составлять гербарий», «Следопыт-охотник», — читал Трофим названия книг. — Ого, товарищ уже готовится к геологическому походу!
Он взял одну из книг, пристроился рядом с Мишариным и начал читать..
— А что ж такого удивительного! — отозвался Гладких. — Я уже маршрут придумал. Вот посмотрите.
Ваня достал из тумбочки тетрадку. На последней странице обложки был чертеж.
Ребята склонились над Ванюшиной тетрадной. Трофим привстал со стула и заглянул через плечо Сени Мишарина:
— Зря старался!
— Почему? — ожидая подвоха, спросил Ваня.
— Тебя в поход не возьмут, — бесстрастно ответил Трофим. Он уже опять уткнулся в книгу.
— Меня? — возмутился Ваня. — Меня?! Самого выносливого?! Я Олекму туда и обратно без отдыха переплываю.
— Ну да, тебя, — подтвердил Трофим, перелистывая книги, — самого ленивого… Олекму переплываешь, это верно. И по математике плаваешь…
— В самом деле, — вмешался Борис, — Ванюша, ты слышал: у кого с учебой плохо, тот в поход не пойдет.
Ванюша тихо присвистнул, молча свернул тетрадь в трубочку и пошел к своей койке.
— А ты не свисти, — сказал Сеня. — Кузьма Савельевич прямо сказал: «Кто химии и физики не знает, тот будет на минералы смотреть, как баран на новые ворота». И еще: «Мне работники нужны, а не туристы».
— Вот когда придется переправу на Олекме строить, тогда посмотрим, кто работник, кто турист. — Ваня Гладких нырнул под одеяло.
Это было в тот же вечер.
Хромов и Кеша прошли весь поселок, пересекли Джалинду и углубились в Заречье. За спиной остались кочкарник, нежилые желтые срубы, больница, огни которой просвечивали сквозь кедровник. Шли молча. Пятидесятиградусный мороз, словно бритвой, резал лицо.