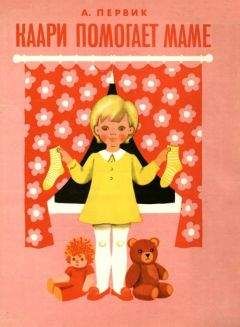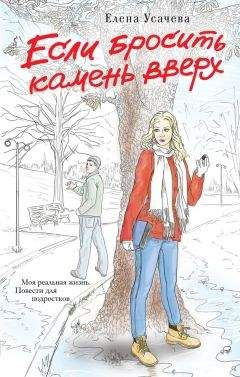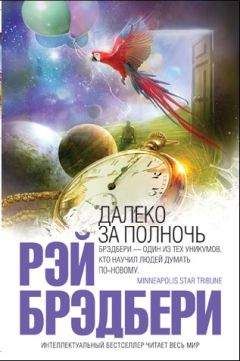Гавриил Левинзон - Прощание с Дербервилем, или Необъяснимые поступки
— Не думай, — сказал папа, нежно поглаживая сынулину головку, — что мы пойдем жаловаться на тебя учителям, чтоб они тебе мораль прочли. Не надейся: у нас есть средство получше.
Стало понятно: человек отлично разбирается в жизни. Из окна первого этажа я понаблюдал за ним: он вел разговор с тремя десятиклассниками, показывал им рукой на своего сына, чтоб они убедились, какой его сын кроха, и, конечно, доказывал, что общественность таких должна взять под защиту. Десятиклассники кивали.
На втором этаже я увидел еще одного обиженного, того самого, который вчера убежал плакать в класс. Он стоял у дверей учительской рядом со своей гневной мамой и мамой Хиггинса. Этого обиженного по головке гладила мама Хиггинса.
— Дербервиль, — сказала она, — я вижу, у тебя ничего не получается. Ты сделал то, что я тебе советовала?
Я ответил, что сделал, но не помогло.
— Ладно, — сказала мама Хиггинса, — придется нам приналечь. Я знаю средство получше. Иди пока в класс.
На третий этаж я поднимался с нехорошими предчувствиями. Здесь, в кабинете русской литературы, минут через пять меня отыскала моя давняя недоброжелательница Калерия Максимовна, наша географичка. Дворничиха ей так азартно показала на меня пальцем, как будто они охотились с ружьем. Калерия кивнула: я так и думала. Она предложила мне спуститься в математический кабинет. Ее нисколько не возмущало, что дворничиха обзывала меня словами, самое ласковое из которых было «бандит».
В математическом кабинете я опять встретился с мамой Хиггинса. За пять минут второй этаж приготовил мне новый сюрприз: маму Женечки Плотицына. В присутствии мамы Хиггинса дворничиха начала повторять мне то, что уже говорила на лестнице, только на этот раз голос у нее погромче был. Маме Хиггинса пришлось ей сказать:
— Вы спокойней, пожалуйста.
Но дворничиха и не подумала утихомириться. Такой неумелый жалобщик. Я с ней расправился в два счета.
— Вы сами видите, что это за человек! — сказал я маме Хиггинса. — Она мне проходу не дает.
Маме Хиггинса пришлось встать между нами, потому что руки дворничихи уж очень близко замелькали от моего лица.
— Вы все видите сами, — сказал я маме Хиггинса и спрятался за ее спиной, как будто уж совсем напугался.
— Он прикидывается, — сказала Калерия Максимовна. — Обратите внимание, какие у него глаза: плутишка.
С Калерией Максимовной мы давно не в ладах. Она меня невзлюбила, наговаривает всем на меня, объясняет, какой я невоспитанный, какой плутишка. Когда меня вызывают в учительскую для разговора, Калерия обязательно вставляет свои замечания. И как же она довольна, что все подтверждается: я качусь и неизвестно, до чего докачусь.
Мама Хиггинса обернулась и поймала меня за руку:
— Ну, будет! Зачем ты человека изводишь?
Она усадила меня за парту, потом и дворничихе сказала «садитесь». Дворничиха сразу перестала шуметь, засмущалась, стало заметно, что у нее усталый вид. Только молча она сидеть не умела: она стала жаловаться на своего мужа, который пьет пиво, ходит на футбол, в домино играет, а об их больной дочери совсем не думает, а она одна всего не может, она и так на двух работах: дворником и билеты на автобусной станции продает — вот какая жизнь. А тут еще ящики с мусором переворачивают! В общем, мужу дворничихи досталось больше, чем мне. Под конец только она мне крикнула:
— Ты моих ящиков не трожь, по-хорошему тебе говорю!
— Я только один раз перевернул, — сказал я. — Не верите? Честно!
Дворничиха всхлипнула на эти мои слова и ушла.
— Кстати, спросите-ка у него, зачем ему два дневника, — сказала Калерия маме Хиггинса и тоже ушла: не интересно, видно, стало.
Я ждал, что дальше будет. У мамы Женечки Плотицына был сердитый вид. Неужели нажалуется, что я у ее сына деньги выманиваю?
— Вот это да! — сказала она. — Посылаешь ребенка в школу, думаешь, там все педагоги, а его плутишкой обзывают! Я бы не потерпела. Ты, Быстроглазый, деду скажи — он ей всыплет!
Подлизывается — значит, дело есть ко мне.
Дело оказалось важным: нужно было проследить, чтобы Женечка съедал на большой перемене пончик в нашей столовой, — он малокровный, аппетит у него плохой, но пончики он любит. Вот только Женечкина мама боялась, что он все деньги на марки станет тратить. Она против марок ничего не имеет, она довольна, потому что это положительные эмоции и развивает, но одними эмоциями жив не будешь. Она спросила, заметил ли я, что Женечка бледный. Я ответил:
— Конечно! Но про пончик, — добавил я, — ничего не знал — теперь учту, буду с Женечкой в столовку на большой перемене ходить.
Замечательный разговор получился! Жаль, человека с кинокамерой не было: можно было бы в кино показывать. Я Женечкину маму до двери проводил.
Когда я повернулся к маме Хиггинса, она улыбалась все той же загадочной улыбкой. Ничего я не мог понять. Давно уже пора было возмущаться. Тогда бы я нашел что ответить, сказал бы: «Что вы себе нервы треплете из-за пустяков. Позвоните родителям: пусть они занимаются моим воспитанием, а не сидят сложа руки. Сами собой дети не воспитываются». Но она сказала:
— Все, иди. Урок уже давно начался.
— А когда ж будем обсуждать случившееся? — спросил я. — Уж очень много фактов нарушения.
— Да что ты беспокоишься? — Она не то чтобы хихикнула, а вроде бы взлетел ее голос — то ли в горле запершило, то ли издевка прорвалась. Что ты на меня так смотришь? Иди. Я уже все решила. Мы вчера с папой твоим советовались. Вот еще с председателем совета отряда поговорю.
— Зря, — сказал я. — Лучше бы с дедом или с мамой: у папы и так много душевных огорчений.
— Из-за тебя?
— Да нет, — сказал я. — Никак не может привыкнуть, что на свете всякое случается. Наивный человек: возделывает свою душу. Если бы не это, то давно бы уже у нас была и тема защищена, и машина — точно вам говорю! Он же способный.
— Ты что, недоволен отцом?
— Да вы что? — сказал я. — Я его люблю! Просто говорю как есть. Машина ведь никому еще не помешала, правда?
Она рассердилась:
— Что ты тут об отце своем наговорил?! Эх ты! Да я его двадцать лет знаю! Если б у моего Сашки был такой отец, он бы счастлив был. Машина ему понадобилась…
Я понял: мама Хиггинса — та самая студентка, которая папе платок подбросила. Ишь как разволновалась — неравнодушна! Надо было второй платок подбросить или еще что-нибудь придумать. Действовать надо было, тогда бы сейчас не нервничала.
— Папа вам посоветовал сказать всю правду о моих поступках? — спросил я. — Так вы сейчас и скажите, я обдумаю. В классе нельзя. У нас такой народ… Только и ждут, чтоб человека обозвали.
Я ей рассказал, как Шпарагу в третьем классе учительница обозвала разиней, и с тех пор его редко по-другому окликают. Уж очень я боялся, что она допустит педагогический просчет.
— Так вы мне не поможете. — Я решил напомнить, что она мне только помогает работать над собой, главное же делаю я. — Можете душевную травму нанести, учтите.
— Помогу, Дербервиль, — сказала она. — Увидишь, у нас все получится.
Тут уж она не улыбалась, смотрела мне прямо в глаза и рукой сделала нетерпеливый жест: иди же! Я ушел.
Нехорошие предчувствия меня одолевали. Я не сомневался, что папа посоветовал маме Хиггинса сказать в классе всю правду обо мне. Что поделаешь? Помешан он на правде. Вообще-то и я против правды ничего не имею, но нельзя же ее всюду совать: иногда малюсенькая неправда гораздо выгоднее большущей правды. Взять хотя бы мой второй дневник. Такое пустячное изобретение, неправдочка с комара, а приносит мне в год — я подсчитал на калькуляторе — большущие деньги. Я качал головой: правда что хочет, то и делает с моим отцом, вот заставляет сына на позор выставлять. Я тогда еще не знал, что правда до того поработила папу, что вмешивается в наши семейные дела и даже занимается нашей темой.
Я решил позвонить деду на работу и зашел для этого в канцелярию. Но деда не оказалось на месте. Жаль! Как мне хотелось ему сказать: «Дед, выручай! Папа с классным руководителем и с правдой загоняют меня в угол…» Он бы мигом примчался. Но тут же я понял, что нахожусь в паническом состоянии, и стал обдумывать, как можно отбиться. Я решил правде противопоставить правду. Ну а если правды у меня окажется маловато, добавлю вранья. Буду говорить: «А сами-то вы лучше, что ли?»
Я до конца урока обдумывал, кому какую правду выложу. Чувалу я поставлю на вид, что он ссорит сына с отцом (разве это не подло?), Свете Подлубной — что она гордячка и задавака (разве так должен себя вести председатель совета отряда?). Я понял, что каждому найдется чем рот заткнуть. Наивные, я вам скажу, те люди, которые думают, что вся правда, какая есть на земле, принадлежит им. В трудную минуту правда у кого угодно отыщется, нужно только мозгами пораскинуть.