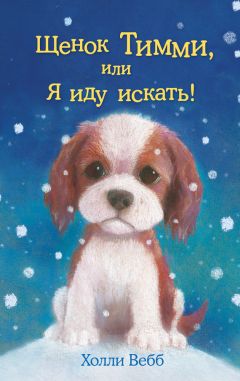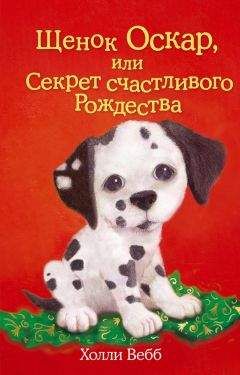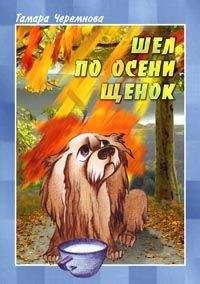Анатолий Дрофань - Загадка старой колокольни
Но прошла ночь, солнце поднялось за рекой, а красавица колокольня, словно непобеждённый витязь в шлеме, так и стояла непоколебимо, как символ тысячелетней непокоримости врагам, огромными окнами своими, будто живыми глазами, приветствуя рождение нового дня.
Когда Август Кюнте уже за городом догнал свою часть, командир спросил:
— Кюнте, ты здесь? Но почему до сих пор стоит колокольня?
— Господин офицер, — ответил сапёр, который всю жизнь до войны, щурясь и зажимая окуляр в глазнице, ремонтировал в дрезденской мастерской все часы всех систем мира, — я и сам не знаю, что случилось… Я замкнул все провода… Я сделал всё, что положено солдату Гитлера… Но взрыва не последовало…
Командир от злобы даже побледнел, зубами заскрежетал:
— Но как ты посмел явиться сюда, когда она стоит?
— Господин офицер, — сказал Август Кюнте с достоинством, — я выполняю приказ моего фюрера… Я не имею права попадать в плен, копаясь возле тех проклятых проводов… Так велит мне мой фюрер…
Однако случилось так, что переправа советских войск задержалась и гитлеровские войска снова вернулись в город, а также и в старый монастырь. Командир спустился в подвал колокольни. Он был хорошим специалистом своего дела и смог легко установить, что никто и не пробовал замыкать провода, что во всех ящиках повреждены запалы. Он также понял, что это мог сделать только человек, которому было поручено взорвать колокольню.
— Так вот кто ты на самом деле! — пришёл в неистовство командир. — Продажная шкура! Я давно слежу за тобой, Кюнте! Я всегда подозревал, что ты такой же, как и твой отец — Тельманов сообщник. Теперь я полностью убедился, Кюнте, что в твоих жилах течёт кровь коммуниста!..
«Его расстреляли в тот же день на монастырском подворье под колокольней, — писал Вилли. — Расстреляли как изменника фашизму, как самого лютого врага фюрера. Даже тело не закопали. Может, не захотели, а может, просто не успели, потому что на окраине города появились советские войска.
А теперь, Жужу и Лёня, мои далёкие друзья, мне и больно за папу, но в то же время сердце полнится радостью, что он был коммунистом и погиб как друг вашего народа».
Мы весь урок читали это письмо, слово за словом переводя печальную повесть человеческой жизни.
ВОЗЛЕ ТУЛЬСКОГО САМОВАРА
Несколько лет тому назад в Женский день папа подарил маме тульский самовар. Обычный тульский самовар — белый, блестящий, с трубкою внизу и конфоркой вверху. Только в середине у него нет трубы, и не надо туда класть уголь и подставлять к печурке. Он включается в электросеть.
Теперь бывает так: после ужина кто-нибудь из семьи захочет попить чайку. Если у мамы хорошее настроение, она приносит из кухни самовар, ставит в центре стола. Шнур включает в розетку, и самовар начинает весело мурлыкать протяжную песенку. Тогда в квартире становится как-то уютнее, теплее.
В тот день мама тоже спросила:
— Ну, а кому чайку?
Пить хотели все, и я побежал на кухню помочь маме носить чашки, розетки под варенье, вазочки. А варенье у нас смотря кому какое по вкусу: вишнёвое, яблочное, смородиновое.
Я люблю те минуты, когда мы чаёвничаем. Делается это всегда не спеша: семья отдыхает после трудового дня. Кто-то рассказывает что-нибудь интересное, прочитанное или пережитое.
Я начал рассказывать про Виллино письмо и про судьбу Августа Кюнте. Все, а особенно папа, слушали меня очень внимательно. Наверное, я слишком волновался при этом, потому что дедушка положил мне руку на локоть, посоветовал:
— А ты спокойнее… Это уже дело прошлое…
— Значит, Виллин отец, — спросил я, — не был фашистом?
— Если всё это правда, — сказал дедушка, — то, видимо, нет…
— Правда, — молвил задумчиво папа, попивая чай и следя за ложечкою, что тихо позванивала о тонкие стенки стакана.
— Откуда ты знаешь? — недоверчиво возразила мама.
— Догадываюсь… Да, кажется, я и сам видел того расстрелянного немца.
— Где? — подхватился я.
Папа отпил немного чаю, поставил стакан на стол, продолжал:
— Когда-то я уже рассказывал вам, что часть, в которой я служил в войну, освобождала от гитлеровцев наш город. Мы стояли на том берегу реки, как раз напротив старого монастыря, и имели задание отвлекать внимание немцев, создавать у них впечатление, будто бы именно здесь собираемся форсировать реку, используя для этого быки взорванного моста. А в это время наши бойцы выше и ниже моста, сразу в двух пунктах, тайно сооружали настоящие переправы.
Ночью мы выходили на берег, шумели, открывали стрельбу, пускали ракеты… А к утру снова отступали. На колокольне у врагов было несколько гнёзд для дальнобойных пулемётов. Они нам очень досаждали. Их можно было бы быстро подавить, ударив прямой наводкой из орудий. Но командование строго приказало не трогать колокольню. Батареи били вдаль: снаряды перелетали через городские кварталы, даже через окраины, и взрывали полевые дороги, по которым должны были, как мы догадывались, отступать оккупанты. Когда город наконец освободили, нашу часть расквартировали в старом монастыре. Прежде всего туда направились минёры. Они и определили, что в подвале колокольни заложена взрывчатка. Но очень удивились, увидев, что запалы повреждены. Однако раздумывать над всем этим было некогда: солдатам надо было дать передышку, и они торопились.
Расквартировавшись, советские бойцы и нашли убитого немца. Он лежал под монастырской стеной с сорванными погонами. Не будь этой детали, его похоронили бы так, как и тысячи других завоевателей — без почестей и уважения, только с презрением. Но всё же сорванные погоны и повреждённые запалы в ящиках с толом настораживали и вызывали интерес.
Командование нашей части, обрадованное возвращением в родной город, мечтало создать музей боевой славы.
Мы собирали интересные трофеи, записывали любопытные случаи…
Папа рассказывал обо всём этом, отпивая из стакана чай. Теперь он отодвинул от себя пустую посуду.
А я к своей чашке даже не притронулся, всё слушал.
— Ты не помнишь, папа, — спросил я, — каким из себя был тот немец?
Отец развёл руками:
— Разве же я могу вспомнить… Сколько я их видел разных. Да и не очень присматривался. Нам тогда, говорю же, некогда было.
— Как жаль, — вздохнул я.
— Чего жаль?
— Что ты не помнишь, — сказал я тихо. — А если бы ты сейчас взглянул на него, узнал бы?
Папа рассердился:
— Ну о чём ты говоришь, Жужу…
— Да нет, не на немца ты взглянул бы, а на его фото, — поспешил объяснить я.
— А-а… — поднял брови папа, — ну, это другое дело. Но… Я уже понял, о чём он хочет меня спросить, и сказал:
— Вилли прислал нам несколько фотографий и дедушки и отца.
— Покажи.
— Все они остались у Любови Васильевны, но я могу взять у неё.
Папа тщательно собрал со скатерти в ладонь крошки печенья, высыпал их в блюдце.
Делал он это будто механически, весь погружённый в свои думы.
— У того немца, — заговорил он снова, — кажется, тоже были фотографии, если память мне не изменяет. Вообще при нём был жёлтый кожаный планшет, и его… Так, так… Тот планшет…
— Ну, ты или уж рассказывай, или думай про себя, — не терпелось маме.
Папа поднял на неё глаза:
— Да вот не получается. И говорится, и думается вместе… Вот я мыслю, не попал ли тот планшет в музей боевой славы нашей части. Если попал, то он наверняка сохраняется там и по сей день.
— Разве и такие вещи вы показываете в своём музее? — поинтересовался дедушка.
— Показываем в экспозиции главным образом героев-победителей, а также всё, что связано со славной памятью о наших воинах. Но в фондах есть и всевозможные трофейные вещи…
— Папочка, — сказал я горячо, — а нельзя ли всё проверить?
— Почему же нельзя?.. Ты скажи мне, прежде всего, его фамилию…
— Кюнте. Запиши, пожалуйста; Кюнте Август.
Но всю неделю папа был занят и поэтому не мог заняться этим делом.
А после воскресенья, когда мы сидели как раз у Лёнчика, вдруг зазвонил телефон. Я подбежал к трубке, приложил её к уху. А в ней голос:
— «Орион»! «Орион»! Я — «Василёк». Говорит майор Корниенко.
— Я — «Орион»! Слушаю вас, «Василёк»! — закричал я радостно. — У трубки Жужу.
— Чудесно, — вновь отозвался папа. — Так вот, ребята, если хотите увидеть фотографию, скорее сюда. Я принёс.
Мы с Лёнчиком кинулись к нам домой. Папа поднял в руке перед нами фотографию. С неё смотрел на нас уже не молодой человек в форме немецкого солдата без головного убора. На широком, словно бы расплюснутом носу — большие очки, а за стёклышками их открытые глаза с какой-то тихой неразвеянной грустью. Внизу подпись: «Август Кюнте. Дрезден».
РАЗРЫВ — ТРАВА