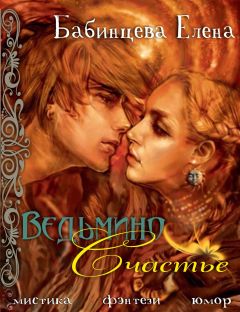Сергей Иванов - Бывший Булка и его дочь
На самом деле здесь было три комнаты, и ещё шаткая лестница вела на чердак. И везде невероятное количество стульев, столов, лавок, которые стояли, лежали, сидели друг на друге.
– А где же тут чай пить? – спросила Лида растерянно.
– В чуме. – Сева отдёрнул линялую льняную штору: ещё одна дверь! – Только валенки сними, пожалуйста.
На улице била капель и жарило солнце. Однако в доме, намёрзшемся за зиму, было мрачно и холодно, как в ноябре. Да ещё все окна закрыты ставнями. На полу, на ледяном линолеуме лежали ошлёпки снега, которые они с Севкой принесли на валенках с улицы. Там снег был влажный, сыпучий. А здесь опять ссохся, заледенел.
Вот почему Лиде так не хотелось снимать валенки. По спине на цепких паучьих лапках пробежал холодок.
– Лидка? – удивился Сева. – Боится!.. Ты не бойся, Лид. Что ж я, тебя морозить буду?
Он с готовностью снял свои валенки, положил их голенищами Лиде под ноги, чтоб она, разувшись, сразу могла наступить на них. А сам в одних носках стоял на ледяном полу.
Тут уж Лида, хочешь не хочешь, сбросила валенки. Ступни её, словно оладьи, сейчас же начали жариться на морозном линолеуме. Но Сева уже открыл свою потайную дверь:
– Иди!
Она сразу наткнулась руками и лицом на что-то тяжёлое, грубое, кожаное. Сзади Сева помог ей, подтолкнул немного вправо. И наконец они вошли…
Сперва Лида ничего не увидела, только желтоватый язычок свечи. Потом глаза привыкли, пригляделись. Это было очень маленькое помещение, без пола, стен, потолка, потому что всё было обвешано и устлано самыми разными шкурами.
– Ух ты! – сказала Лида. И голос её завяз, запутался в этих шкурах. Здесь не было ни клочка, ни сантиметра голого пространства. Всё косматое!
И ещё было жутко тепло.
– Чего здесь греет-то, Сев, шкуры, что ль?
– Ну ты даёшь! – засмеялся Сева. – Хотя доля истины в твоём бреде есть.
Лида промолчала. От удивления сейчас было не до обид.
– Ты знаешь, что такое чум?.. Лид!
– Ну… на Севере… – неуверенно сказала Лида.
– "На Севере"! – необидно передразнил Сева. – Чум -это жилище северных народов. Оно в основном всё сделано из оленьих шкур… ты садись давай на ложе, чего стоишь.
Лида села и по звону разговорчивых пружин поняла, что под нею старый диван. Севка поставил чайник… ага, тут была электроплитка. Она стояла на невысокой скамеечке.
– Ну вот, – сказал Сева, усаживаясь рядом с Лидой. – Мой отец один раз был на Таймыре. Он нефтяник… ну и так далее…
Тут он посмотрел на Лиду и остановился. За то долгое время, пока они были знакомы, Лида почти ничего не рассказывала Севе про батяньку и про маму. Зачем это? И Севка тоже не рассказывал. Главное, чтоб человек был, а какие там у тебя родители – неважно. Но несколько раз Лида слышала, как Севка разговаривал по телефону со своей мамой. Именно с мамой. Теперь Лида впервые что-то услышала о его отце. Да, впервые. И поняла, что это все-таки странно. И Севка тоже понял это. Сказал:
– Ну, короче, дача не наша, его дача… Но мне разрешается! – Он посмотрел на Лиду: – Всё ясно? Можно продолжать?
Лида невольно кивнула. И покраснела. Счастье, что при свече ничего не видать!
– Ну и вот… – сказал принуждённо Севка. – Приехал он на Таймыр, пожил в чуме и совершенно офонарел…
– Сева! Ну говори ты по-человечески! – она рада была уйти от опасного места. Севка пожал плечами:
– Ну, "офонарел" или "удивился" – не всё ли равно? Короче, он приволок оттуда три оленьих шкуры. Потом ему с Таймыра ещё пару шкур прислали, потом откуда-то медвежью раздобыл.
– Медвежью?!
– А ты на ней сидишь как раз.
Мех был жёсткий и густой… Ничего себе!
– В чуме понимаешь как: на улице мороз, тундра, а в чуме ни печки, никаких электрокаминов. Одна свеча горит – и тепло. От свечки!.. Но здесь так не получилось. Наверно, пропускает где-то. Или мех некачественный. Тут и овчина, и цигейка от старой шубы, и… всякая дрянь, – он осуждающе хмыкнул.
– Ладно уж, Севка! Чем тебе овчина дрянь?
– Ну всё-таки не то, – сказал он примирительно. – Вообще-то с плиткой здесь жарища. Можно спать сколько хочешь. Хоть всю зиму. Кайф!
– А летом?
– А летом они всё снимают – простая комната. Мы с ним раньше часто сюда ездили. А теперь – то диссертация, то фигнация…
Наступила та неловкая минута, о которой жалел, конечно, и сам Севка. Скорей бы её забыть…
А в чуме было тепло и тихо. Пахло чем-то незнакомым, но спокойным. Шкурами, догадалась Лида. Закипел чайник. Сева принёс промороженный стул, на нём, как на столике, Лида разместила привезённые бутерброды, здешнюю банку варенья и две чашки. С опаской она посмотрела на свой чай. Но при свече, слава богу, ничего не разберёшь!
Кто не пивал чаю после целого дня на свежем весеннем воздухе и солнце, кто не пивал чаю в настоящем чуме, кто не пивал чаю с человеком, с которым без конца хочется разговаривать, на которого без конца хочется смотреть, тот никогда не поймёт, как хорошо сейчас было этим двоим.
Вдруг Лида почувствовала словно мягкий удар. Голова её закружилась, но так легко-легко. Она ещё успела снять жаркий свитер, совершенно забыв, что под низом самая простецкая ковбоечка. Пролепетала:
– Я сейчас…
И уснула мертвецким сном.
* * *
Проснулась Лида от слабой прохлады. Наверное, из-за того, что сняла свитер… Горела свеча. Стул, чашки и вся еда были убраны. На полу, на какой-то там шкуре мамонта, спал Севка.
Он дышал редко и глубоко. И лицо его было как бы чуть удивлённым. Даже брови еле заметно нахмурены, словно он старается что-то сообразить, да никак не может. Наяву такого выражения быть у него не могло – с его самоуверенностью и насмешливостью.
Очень тихо она приподнялась, натянула свитер и увидела, что плитка выключена, и подумала, что ему, наверное, холодно на полу. Она включила плитку, поудобней улеглась на медвежьей шкуре и опять стала смотреть на Севу. Какие-то мысли, спокойные, простые, текли у неё в голове. Лида не запомнила их, как во сне.
Всё было хорошо, ей ничего больше не хотелось – только это.
Треснула свечка, чуть ярче вспыхнул лоскутик огня.
Лида уснула.
* * *
Ей ничего не снилось, а если снилось, то сразу уплывало. Проснулась она от чего-то, от чего-то… Она пошевелила губами и открыла глаза.
И увидела Севу. Он стоял в углу, у дальней стены, какой-то то ли испуганный, то ли встрёпанный. Лида ничего не могла понять. О чём-то он спрашивал её глазами.
– Сева, – сказала она, улыбаясь. И тут же поняла, почему он так стоит и что спрашивает. И поняла, как бы вспомнила то, от чего она проснулась.
Лида резко поднялась, села, вся сжавшись в комочек. Вдавила плечи в стену, в угол – самый противоположный от Севки.
Что делать теперь? Обидеться, заорать, заплакать? Но всё равно это уже случилось. Время не схватишь за хвост и не отмотаешь назад, чтобы вычеркнуть тот момент, когда он стал на колени перед спящею Лидой и своими губами прикоснулся к её губам. А своим носом, наверное, прикоснулся к её носу.
Лида сжалась ещё сильнее. Подбородок вдавила в колени. Две слезы выехали у неё на глаз, потом ещё две. Лида сморгнула их. Севка на какое-то время стал виден смутно… "Слёзы застлали ей глаза" – как говорилось в старых романах.
Главное, ей совсем не было стыдно. И от этого ей было… ужасно стыдно!
И приятно ей не было. И очень обидно: случилось такое важное, а будто ничего не произошло!
Она плакала, а Сева молчал. Только скажи мне что-нибудь, я тебе так дам!..
Прошло несколько минут. Теперь она просто сидела и плакала. Потому что сразу ведь не остановишься. Она полезла в карман за платком, да никак не могла его вынуть из обтягивающих своих брючек.
– Лида… Лидочка! Я тебе клянусь, я никогда больше!
– Ладно. – Она шмыгнула носом, потому что платок никак всё не вылезал.
Молча, стесняясь друг друга, они собрались. А впрочем, что там за сборы: сапоги надеть, да пальто, да шапку. Всё это Сева принёс ей в теплоту чума и настелил дорожку из двух старых телогреек, чтоб она могла пройти в сапогах.
– Лид, ты есть будешь?
Ей хотелось поесть. Но как было сказать об этом в такую неподходящую минуту? Она молча покачала головой.
– Ну и я тогда не буду! – сказал Севка. А ему, наверное, хотелось ещё больше: ведь он мальчишка. Лида пожалела его. Но что же поделаешь!
На улице солнце светило всё так же весело. Только с середины неба оно переползло на край. Было уже половина пятого. Тёмные длинные тени от двух баб расходились в разные стороны. И хотя это был всего лишь закон физики, Лиде стало грустно.
Севка с понурой деловитостью проверял, всё ли убрано, потушено, выключено. На снегу, на стеклянном приморозке, валялись их бутерброды. Верней, они даже и не валялись, а просто лежали на снегу, как на скатерти, – бери да ешь! Но сказанного слова не воротить. Тут уж пошло на принцип.