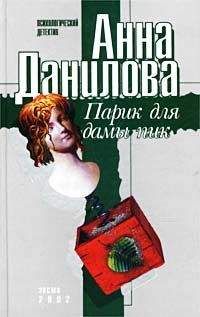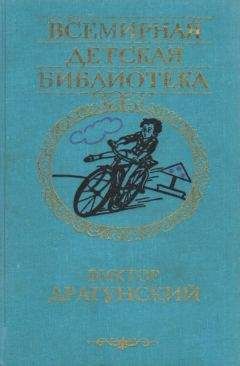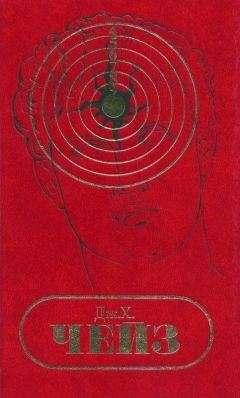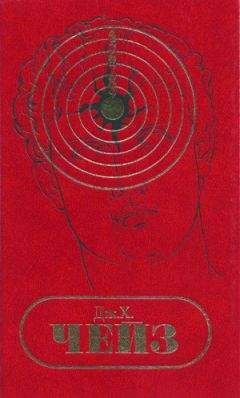Виктор Драгунский - Сегодня и ежедневно
— Коля, — сказал он, — ты переехал.
— Куда? — спросил я.
— В конец второго отделения, — сказал Жек, — вон куда.
— После бронзовых Матвеевых вы пойдете, Николай Иванович, — пояснил Башкович. — Манеж будет уже убран, он будет чистенький, с рындинским ковром, аппаратура Раскатовых уже висит загодя, и вы сможете работать спокойно.
— Ни граблей, ни клеток, ни лязга, ни грохота, — сказал Жек, санаторные условия.
— Во время вашего выступления все внимание зрителей будет отдано вам, Николай Иванович, — снова вставил научную реплику Башкевич, — ничто не будет отвлекать зрителей, и вам будет легко контактировать с залом.
— Куда угодно, — сказал я, — хоть к черту на рога.
— Это вместо благодарности, — откликнулся Жек.
— Не с той ноги встал? Что случилось? — Борис внимательно смотрел на меня.
Я не отвечал.
Зазвонил телефон.
Борис снял трубку.
— Да.
Там кто-то квакал внутри, и Борис вдруг протянул трубку мне.
— Тебя.
О, черт! Неужели я жду от нее звонков? Я сам себя ненавидел, когда брал трубку.
Я сказал:
— Ветров.
Там сказали:
— Ты завтракал? Если нет, подымись ко мне.
Я сказал:
— Чтоб ты пропал! Пугаешь только. Не мог зайти за мной, что ли?
Он сказал:
— Придешь?
— Сейчас, — сказал я.
— Из буфета? — спросил Жек.
— Русаков, — сказал Борис.
— Я пойду поем, — сказал я. — Значит, все, как вы сказали. Принято к сведению и исполнению.
Башкович подошел ко мне и пожал мне руку.
— До свидания, Николай Иванович, — сказал он торжественно.
— До свидания, Григорий Ефимович, — ответил я.
14
Они занимали самую большую гардеробную в главном коридоре, и, когда я пришел, все они сидели за столом. Видно, хотели есть и ждали меня. Надежда Федоровна, хотя и пополневшая, но все равно красивая, хозяйничала. Она положила мне на тарелку огромный кусок яичницы — на столе стояла сковорода величиной с таз. Татка сидела напротив меня, она у них единственная была, мать тряслась над ней, закармливала и кутала немилосердно. И сейчас Таткина голова, шея, грудь и плечи были спеленуты цыганской шалью. На полу бегали дворняжки-щенята Нарзан и Боржом. Их жестоко щипал свирепый гусенок Иван Иваныч. Эта троица представляла собой личную труппу Татки. Сам же Русаков, вождь и глава этого табора, высокий и молодцеватый, немного обалдевший от перелета, сидел в нарядной стеганой куртке за столом, поминутно глотал слюну и сжимал ладонями уши. Он только что приехал с аэродрома. За его спиной, цепко держась корявыми лапами за спинку стула, торчал попугай Кока. Он, видимо, очень был рад приезду хозяина и в знак салюта ежесекундно приподымал и распускал на темечке свой хохолок. Как будто вырастали пучки молодого лука. Роза сидела на полу у ног повелителя и главы. Иногда она деликатно касалась его колена лапкой. Русаков давал ей сахару и не глядя пошлепывал по гладкой, лишенной шерсти коже. Она была африканская собака — Роза, и в лиловых ее глазах плясало веселье.
Динка сидела в клетке. Ей было плохо. Негромкий, но сухой и скребущий грудь кашель мучил ее. Она завернулась в полосатое одеяльце и смотрела на нас укоризненно, неласково и отчужденно. Иногда она передвигалась, чтобы устроиться поудобнее, отворачивалась от нас к стенке, и тогда были видны два красных помидора ее задика. Вошел Панаргин и подробнейшим образом пересказал Русакову все наши вчерашние приключения.
— Молодцы, ребята, — доктора, — сказал тот, великодушно помахав рукой, — выношу благодарность.
— Служим трудовому народу! — сказал я и выпучил глаза. Специально для Татки. Панаргин еще стоял.
— Вольно, оправиться, огладить лошадей! — крикнул Русаков с кавалерийской оттяжкой. — Садитесь, товарищ Панаргин. — Он пододвинул Панаргину табуретку, тот сел. Надежда Федоровна немедленно положила ему еды.
— А вы почему синий стали, дядя Коля? — хрипло сказала Татка.
— Чтоб смешней, — сказал я.
— Вам сколько лет?
— Сто одиннадцать, — сказал я.
— Ничего, еще молодой, — сказала Татка, — я за тебя замуж выйду.
— А пока давай ешь, — сказал я.
— Она у нас артисткой будет, — сказал Панаргин. — Ты в балете будешь, Татка? Или в цирке, как папа?
— Я певица буду, — прохрипела она. — Вон Петька Соснин стал певцом. Он, говорят, на верблюде скачет, а сам в это время поет. Лично я не видела люди говорят. Он способный. — Она поковыряла в тарелке и добавила завистливо: — Плевала я на его способства. Я в опере петь буду.
— Дай Динке черносливу, — сказал Русаков, — ведь она голодом изойдет, ума не приложу, что делать.
Татка пошла к клетке и стала совать туда лакомства. Динка с отвращением отталкивала их.
— Она, папа, скучает, — сказала Татка, — она немножко хворает, но больше всего она скучает, папа.
— Ты почему так думаешь? — сказал Русаков.
— Она, бывало, и раньше кашляла, но когда ты отдал Лотоса, она заскучала. Я заметила.
— Может быть, вправду? — задумчиво посмотрел на Панаргина Русаков.
— Подсажу к другим, ведь не чахотка же у нее… Вдруг Татка права? откликнулся Панаргин.
— А как же, — сказала Надежда Федоровна, — она папина дочка, она животных чувствует, яблочко от яблони…
Она с гордостью посмотрела на Татку. И Русаков тоже.
В это время, не знаю, ему есть захотелось, что ли, только мы вдруг увидели, что попугай Кока направился своей матросской походочкой к сковороде. Он шел, легонько посвистывая, и пошатываясь, и выставив свой нос, похожий на консервный ножик. Русаков закрыл лицо руками.
— Ай! — сказал он громко, неподдельное горе и отчаяние были в его голосе. — Что я вижу? Кока опять на столе? Он залез на стол? Ай, как стыдно! Нельзя! Ведь воспитанные попугаи никогда не ходят по столу! Стыд! Позор! Срам! Кока на столе? Стыдобушка!
Кока затоптался на месте, и я никогда в жизни не видел и, наверно, не увижу более смущенного попугая. Мне показалось, что он покраснел. Быстро и неловко ступая меж солонок и вилок, Кока воровато побежал со стола, прыгнул к Надежде Федоровне на колени, вскарабкался по ней на спинку стула, устроился там и вдруг захорохорился, в нем что-то забурчало, и мы услышали:
Чижик-пыжик,
Где ты был?
На Фонтанке
Водку!..
Здесь он ни с того ни с сего устроил вдруг нелепую антимузыкальную паузу.
— Пил! — вдруг крикнули Татка, Надежда Федоровна, Панаргин и Русаков. Они с полминуты напряженно смотрели на попугая. Но тот молчал.
— Двух медвежат! — сказал с досадой Русаков. — Двух чудных медвежат слупил с меня этот алчный старик Кудряшов за такую бездарность… И я доверчиво ему их отдал. Я думал, не может быть, чтобы попугай не смог выучить только одно словечко — «пил». О, кто-кто, думал я, а я его выучу! И вот полюбуйтесь!
Я сказал:
— Спасибо, Надежда Федоровна, пойду.
— Уже? — сказал Русаков.
— Ночь не спал, — сказал я.
— Ты… еще приходите… — сказала Татка.
Надежда Федоровна проводила меня до двери.
— Ты что, Коля? — сказала она.
— А что? — сказал я.
Она долго смотрела на меня. Я молчал.
Она сказала:
— У тебя глаза как у Динки…
15
Я прошел к себе. Тихо было в моей комнате, как в каюте, корабль шел своим маршрутом, а здесь тихо и можно отдохнуть. Я сел на низенький стул, стоявший подле диванчика, и решил сделать генеральный осмотр реквизита, гардероба, бутафории и прочего моего имущества. Я выдвинул чемодан и стал вынимать вещь за вещью, встряхивать каждую и разглядывать ее на свет, и делал это придирчиво, чтобы, если что не так, отложить в сторону и починить. Я умел ремонтировать свои вещи без посторонней помощи; шил я не хуже любой мастерицы, и стирал, и гладил, и умел парик завить на любой фасон, знал картонажную работу, вертел и заряжал хлопушки, мастерил «батоны» — палки, которыми можно небольно ударить партнера, конструировал разные мелкие машинки для «чудес», например сковородки, из которых можно было вытащить живого кролика, все это было ерундой для меня, жизнь научила, товарищи, родители, потому что неинтересно бегать по городу в поисках мастера, который сумел бы сделать такой пустяк, как музыкальную суповую ложку или соску — она же автомобильный гудок. Все эти насущные вещи цирковой артист, если он любит дело и воспитывался в хорошей цирковой семье, должен делать сам.
И когда я подумал о семье, снова вечная тяжесть легла мне на душу, и сдавило грудь, и дернуло, словно кто кастетом ударил по голому сердцу.
Зачем я уехал тогда из Львова в пионерский лагерь у моря? Ведь я не хотел, не хотел, и хотя я уже большой был и крепкий, и цирковой все-таки, и когда падал и расшибался на репетициях, никогда не ревел, — а тут ревел, не хотел ехать в лагерь, а мама велела, она говорила, что я счастья своего не понимаю, что я должен прыгать от радости и быть благодарным директору Проценко, и председателю месткома — не помню фамилии, — и всей Советской власти, что я поеду к морю, там загорю и отдохну, и что это счастье, и что месяц это не срок, и пусть я не дурю, они мне будут писать и ждать меня в июле обратно во Львов. Она меня проводила и держала Алешку за ручку, а ему было три года тогда, и я целовал его тугую щечку и все подтягивал ему съезжавший носок на толстую ногу, толстую, точеную и блестящую, как ножка какого-нибудь столика или дивана. Но я не вернулся тогда домой в июле, а лучше бы я погиб вместе с мамой и отцом и маленьким Алешкой, он так вкусно пахнул по утрам и такой был смышленый и нежный, и он погиб вместе со всеми тогда. Фашисты не пощадили их никого, и я этого не в силах забыть, пусть я тысячу лет проживу и потом умру и воскресну снова через две тысячи лет, все равно не будет, не будет, не будет в душе моей им прощенья, не будет во веки веков.