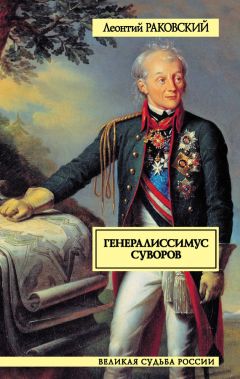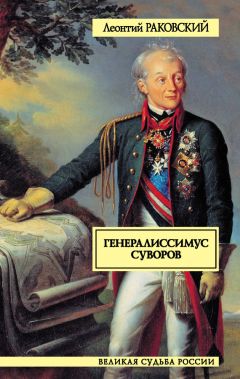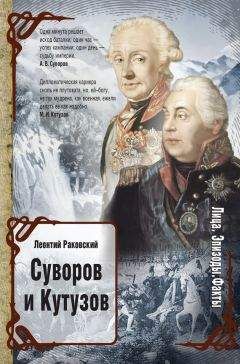Сергей Алексеев - Великие битвы великой страны
– Из Оренбурга он, государь, – ответил вместо Гришатки Хлопуша.
– Да ну?! Ты что же, бежал?
– Бежал, – признался Гришатка.
Покосился он еще раз на Хлопушу и рассказал Пугачеву, как было.
– В бочке? Ну и дела! Хоть мал, а хитрец, вижу. А чего это у тебя волосы на голове прожжены?
Поведал Гришатка, как Рейнсдорп выбивал о его голову трубку.
– Ах, злодей! – воскликнул Пугачев. – Ну я до него доберусь. А как звать тебя, молодец?
– Соколов я, Гришатка.
– Соколов? – переспросил Пугачев. Повернулся к Хлопуше: – И ты Соколов.
– Так точно, ваше величество, – гаркнул колодник. – Соколов Афанасий.
– Ну и дела, – усмехнулся Пугачев. – Выходит, и Сокол ко мне прилетел, выходит, и Соколенок.
Глава третья Великий Государь
На новом месте
Прошло три дня. Обжился Гришатка на новом месте. Оставили его тут же, при «царском дворце». Только не наверху, а внизу, в пристройке, на кухне у государевой поварихи Ненилы.
– Заходи, располагайся, – сказала Ненила. – Чай, и место, и миска тебе найдутся.
Постригли Гришатке голову вкруг – по-казацки. Хлопуша притащил полушубок. Ненила где-то достала новые валенки. Хоть и велики валенки, хоть и плохо держатся на ногах, зато точь-в-точь такие же, как у самого царя-батюшки, – белые, кожа на задниках.
Стал Гришатка гонять по слободе. Слобода большая. И с каждым днем все больше и больше. Валит сюда народ со всех сторон. Наскоро ставят новые избы, роют землянки. Людей словно на торжище. Казаки, солдаты, татары, башкиры.
Одних мужиков – хоть море пруди.
Бежит Гришатка по бердским улицам.
– Привет казаку! – кричат пугачевцы.
– Ну как генерал Рейнсдорп?
– Скоро ли крепость сдастся?
Вернется Гришатка домой. Накормит его Ненила. Погреется мальчик и снова к казакам и солдатам.
Знают в слободе про Гришатку все: и как он был за голосистую птицу, и как в Ганнибалах ходил, и как выбивал губернатор о Гришаткино темя трубку.
Знают про Тоцкое, про лютое дело офицера Гагарина. И про Вавилу знают, и про парикмахера Алексашку, про Акульку и Юльку, про деда Кобылина.
Известнейшим человеком на всю слободу оказался Гришатка.
«Дитятко», – называет его Ненила.
– Ух ты, прибег. Царя заслонил. Жизнь свою ни в копейку, – восторгается Гришаткой Хлопуша.
– Казак, хороший будет казак, – хвалят мальчика пугачевцы.
Синь-даль
Утро. Мороз. Градусов двадцать, но тихо, безветренно.
Поп Иван, священник пугачевского войска, приводит вновь прибывших в Бёрды к присяге.
Крыльцо «царского дворца». Ковер. В кресле сидит Пугачев. Рядом, ступенькой ниже, в поповской рясе поверх тулупа, свечкой застыл священник Иван. Лицо ястребиное, строгое. Перед крыльцом полукругом человек триста новеньких. Среди них и Гришатка. Все без шапок. Кто в армяке, кто в кацавейке, кто в лаптях и онучах, лишь немногие в валенках.
– Я, казак войска государева, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом… – начинает густым басом священник Иван.
– Я, казак войска государева, обещаюсь и клянусь… – в одну глотку повторяют стоящие.
– Я, казак войска государева… – шепчет Гришатка.
– Клянусь великому государю императору Петру Третьему Федоровичу служить не щадя живота своего до последней капли крови, – продолжает поп Иван.
– Клянусь великому государю… – разносится в морозном воздухе.
– Служить до последней капли крови, – повторяет Гришатка.
Проходит четверть часа. Присяга окончена.
Пугачев подымается со своего места, кланяется в пояс народу.
– Детушки! – Голос у Пугачева зычный, призывный, Гришатку аж дрожь по телу берет. – Молодые и старые. Вольные и подневольные. Русские, а также разных иных племен. Всем вам кланяюсь челом своим государевым. Царская вам милость моя, думы мои вам и сердце.
– Долгие лета тебе, государь, – несется в ответ.
– Детушки, – продолжает Емельян Иванович. – Не мне клянетесь, себе клянетесь. – Голос его срывается. – Делу великому, правде великой, той, что выше всех правд на земле. В синь-даль вас зову, в жизнь-свободу. Иного пути у нас нетути. Не отступитесь же, детушки, не дрогните в сечах, не предайте же клятву сею великую.
И из сотен глоток, как жар из печи:
– Клянемся!
– Клянемся!
– Клянусь! – шепчет Гришатка.
«Уф!»
– Гришатка, Гришатка, – позвала Ненила. – Собирайся, с государем в баню пойдешь.
Собрался Гришатка. Ух ты, не каждому от батюшки подобная честь!
Баня большая, с предбанником. Фонарь с потолка свисает.
Маленькое оконце в огороды глядит.
Липовая скамья. Полка-лежанка. Котел с кипящей водой. Рядом второй, поменьше – для распаривания березовых веников. В нем квас, смешанный с мятой. Груда раскаленных камней для поддавания пара.
Раздевался Гришатка, а сам нет-нет да на государево тело взглянет. Вспомнил про царские знаки. Видит, у Пугачева на груди пониже сосков два белых сморщенных пятнышка. «Они, они», – соображает Гришатка.
Заметил Пугачев пристальный взгляд мальчика, усмехнулся:
– Смотри, смотри. Тебе такое, конечно, впервой.
Зарделся Гришатка.
– Это царские знаки?
– Так точно, – произнес Пугачев. – Каждый царь от рождения имеет такие.
– Прямо с младенчества?
– Прямо с младенчества. Как народилось царское дите, так уже и сразу в отличиях. Вот так-то, Гришатка.
Мылись долго. Пугачев хлестал себя веником. То и дело брался за ковш, тянулся к котлу, в котором квас, смешанный с мятой. Подцепит, подымется и с силой на раскаленные камни плеснет. Шарахнутся вверх и в стороны клубы ароматного пара. Квасом и мятой Гришатке в нос.
Мылся Гришатка и вдруг вспомнил, что забыл он передать великому государю поклон от Савелия Лаптева. Бухнулся мальчик на мокрый пол Пугачеву в ноги:
– Поклон тебе, великий государь, от раба божьего Савелия Лаптева.
– Что?!
– Поклон тебе, великий государь, от раба божьего Савелия Лаптева.
– Встань, встань, подымись!
Встал Гришатка, а Пугачев посмотрел куда-то поверх Гришаткиной головы и о чем-то задумался.
Было это давно, в 1758 году, во время войны с Пруссией. Донской казак Емельян Пугачев находился в далеком походе. Молод, горяч казак. Рвется в самое пекло, в самую гущу боя. Вихрем летит на врага. Колет казацкой пикой, рубит казацкой шашкой. «Бестия, истинный бестия!» – восхищаются Пугачевым товарищи.
Сдружился во время похода Пугачев с артиллерийским солдатом Савелием Лаптевым. Соберутся они, о том о сем, о жизни заговорят. Пугачев – о донских казаках. Лаптев – о смоленских крестьянах. Сам он родом оттуда. И как ни говори, как ни рассуждай, а получается, что нет жизни на Руси горше, чем жизнь крестьянина и казака-труженика.
«Эх, власть бы мне в руки, – говорил Пугачев. – Я этих бар и господ в дугу, в бараний рог крутанул бы. А мужику и рабочему люду – волю-свободу, землю и солнце. Паши, сей, живи, радуйся!»
«Ох, Омелька, быть бы тебе царем, великим государем», – отвечал на это Савелий Лаптев.
«Эка куда хватанул, – усмехнулся Пугачев. – Да разве может так, чтобы царь – и вдруг из простого народа?»
«Не бывало такого, – соглашался солдат. – Прав. Не бывало. Да мало ли чего не бывало…»
Потом судьба разлучила друзей. Прошли годы…
– Так как, говоришь, Лаптев сказал? – обратился Пугачев к Гришатке.
– Поклон тебе, великий государь… – начинает мальчик.
– Стой, стой, – прервал Пугачев. «Великий государь! – произнес про себя и подумал: – Одобряет, выходит, Лаптев. Не забыл старое. Царем величает. Ну что же, царь так царь. Держись, Емельян Иванович». – Эй, Гришатка! – закричал Пугачев. – Залезай-ка на лавку. А ну, давай я тебя по-царски.
– Да я сам, ваше величество.
– Ложись, ложись, говорю. Не упорствуй.
Намылил Пугачев Гришатке спину, живот, натер бока до пурпурного цвета мочалой. Взялся за березовый веник. Заходило под взмахами Гришаткино тело. Разыгралась, забилась в сосудах кровь.
– Вот так, вот так, – усмехаясь, приговаривает Пугачев. – Чтобы болезни и хвори к тебе не пристали. Чтобы пули тебя не брали. Чтобы рос ты, Гришатка, как дуб среди степи. Чтобы был ты не раб, а казак!
Потом Пугачев подхватил в бадейку воды. Отошел, размахнулся, хлестанул на Гришатку.
Гришатка захлебнулся и фыркнул:
– Уф!
Шапка
Собралось в Берды до трех тысяч простых крестьян – мужиков-лапотников. Они-то и ружья в руках никогда не держали. Многие пики не видели.
Приказал Пугачев для крестьянской части своего войска устроить учения.
Вели занятия сразу же за слободой на открытом месте. Бегают мужики в атаку. Учатся пикой владеть, в казацком седле держаться.
Тут же неподалеку установлено три щита и на них мишени. По мишеням из ружей идет пальба.
Около стрелков крутится Гришатка. Интересно ему. Стоит, смотрит.
Стараются мужики. Пугачев заявил, что лучшему стрелку будет с его царской головы шапка.
Шапка дорогая, мерлушковая, с малиновым верхом. То-то бы угодить в самое яблочко.