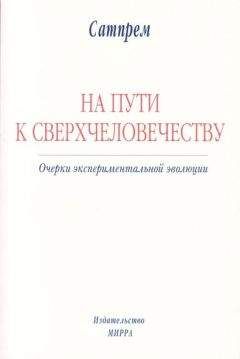Василий Авенариус - На Москву!
Курбский смотрел на него без всякого замешательства, с недоумением человека, не знающего за собой никакой вины.
— Прости, государь, — сказал он, — но по словам твоим выходит, будто бы я должен в чем ответ держать…
— К чистому никакая грязь не пристанет, — заговорил тут Мнишек, проводя ладонью по своему голому, лоснящемуся темени, — что служило у него всегда знаком сильного душевного волнения. — Двумя словами, любезный князь, вы можете рассеять тяготеющее над вами обвинение. Скажите: в каких сношениях вы находитесь с Басмановым?
Курбский выпрямился во весь свой внушительный рост, и глаза его засверкали благородным негодованием.
— Я с Басмановым? — переспросил он, оглядывая всех присутствующих. — Да кто посмел взвести на меня такой поклеп? Уж не вы ли, Балцер? — сообразил он по ядовитой усмешке, искривившей тонкие губы шута.
— О, ваша княжеская милость! — отозвался тот с откровенным нахальством. — Коли у вас есть на то свой близкий человек, так дерзну ли я непрошенно оказывать вам услуги.
«Петрусь был в замке у Биркиных и на обратном пути попал в руки поляков».
От этой мысли Курбскому нельзя было уже не смутиться. Мертвенная бледность, покрывшая вдруг его лицо, не ускользнула от внимания Мнишека. Он кивнул своему адъютанту:
— Введите-ка сюда арестанта.
«Если арестант этот — мой Петрусь, то про Марусю я не дам ему сказать ни слова», — решил про себя Курбский.
Арестантом, в самом деле, оказался Петрусь, и когда глаза последнего, как бы вопрошая, прежде всего остановились на его господине, этот покачал отрицательно головой: «молчи, дескать, не проболтайся».
— Пожалуйста, князь, без тайных знаков! — сухо заметил гетман; затем обернулся к хлопцу. — У тебя при обыске нашли письмо. Ты не хотел отдать его в чужие руки и бросил в огонь. Очевидцами этого были Балцер Зидек и все ратники у костра. Стало быть, отпираться от этого тебе было бы напрасно.
— Я и не отпираюсь, — отвечал Петрусь, смело глядя в глаза допросчику.
— А к кому было письмо?
— Почем мне знать? Я неграмотный.
— Да я-то грамотный! — подхватил тут Балцер Зидек. — На затыле письма стояло: «Его милости князю Михайле Курбскому». Аль не слышал, как я читал?
— Слышал; да мало ли что ты прочитаешь, чего вовсе и не написано! Сбрехнуть на добрых людей такому злюке ничего не стоит.
Что тот, действительно, был «злюкой», доказал поток отборной брани, излившейся теперь из уст его на казачка. Но старик-гетман властно предложил шуту не забываться, а потом обратился снова к допрашиваемому:
— Да кто-нибудь же передал тебе то письмо?
— Никто не передавал.
— Откуда же ты взял его?
— В поле поднял.
— В каком месте?
— В каком месте?.. Да около траншеи. Э! Думаю, кто-нибудь обронил. Покажу-ка своему князю…
— Прекрасно. Но для чего же ты в таком случае бросил его в костер?
— Чтобы оно этому аспиду не досталось. Находка — моя; а он ее силой, вишь, у меня отбирает. Так вот, небось, у него и оставлю! Не мне, так и не ему!
— Ловок ты, я вижу, на всякие увертки, — сказал Мнишек. — Но это тебе, любезный, ни к чему не послужит.
— Да отсохни у меня язык.
— Не гневи Бога! Как раз отсохнет. Мы и без тебя все доподлинно уже знаем…
— А знаете, так чего вам еще от меня? Вызывающий тон мальчика взорвал, наконец, гетмана.
— Под нагайкой ты, авось, запоешь другую песню! — сказал он. — Пане Тарло! Сдайте-ка его моим гайдукам.
— Погодите, пане Тарло, — вступился тут Димитрий. — Я думаю, что мы обойдемся и так. Ты, хлопец, ведь из казаков.
— Из запорожских, государь, — отвечал тот по-прежнему бойко, но без прежнего задора.
— И видел, конечно, как допрашивают нагайкой?
— Безвинных? Не случалось.
— А виновных?
— Видел, государь.
— Так иной допрос стоит иного наказания. Подумай-ка хорошенько…
— Я уже подумал. Ты, княже, не крушись обо мне, — отнесся мальчик к своему господину, — шкуры ведь не сдерут, а потерпеть за тебя для меня в удовольствие.
Курбский готов был прижать своего верного казачка к сердцу. Но избавить его от пристрастного допроса было всего одно средство — открыться всем присутствующим в своих чувствах к Марусе; а против этого все в нем возмущалось: и себе-то ведь он боялся еще признаться в тех чувствах… Да и дали бы ему еще веру? При перекрестном допросе выведали бы, пожалуй, от него или от Петруся про Биркинскую лазейку в крепость, потребовали бы, чтобы показать им эту лазейку…
«Нет, лучше обо всем молчать!»
А пока он так колебался, гетман повторил адъютанту свое приказание вывести арестанта. Пан Тарло толкнул последнего кулаком в шею.
— Ну, чего стоишь? Марш!
И дверь затворилась за обоими. Мнишек наклонился к Димитрию и стал с ним шептаться.
— Обождем, — произнес со вздохом царевич, пожимая плечами.
До возвращения пава Тарло прошло едва ли более десяти минут; но Курбскому, болевшему душой за своего хлопца, они показались столькими же часами.
— Ну, что, сознался? — был первый вопрос Мнишека входящему адъютанту.
Разгоряченное и хмурое лицо пана Тарло еще более омрачилось…
— Нет, не сознался, — пробурчал он сквозь зубы. — Преупрямый мальчишка!
— Вы обошлись с ним, может быть, чересчур мягко?
— Какое мягко! Рука у меня устала.
— Так вы допытывали сами?
— Сам: все вернее. А он как воды в рот набрал, хоть бы пикнул!
— Так поджечь бы ему чуточку пятки, — предложил со своей стороны Балцер Зидек, — радикальное средство, испытанное с большим успехом инквизицией. И если бы пан гетман мне дозволил…
— Покамест об этом не может быть и речи, — прервал пан Тарло, — надо ему еще очувствоваться.
— Гм, — промычал Мнишек, — так он, значит, без памяти?
— Да. Слабосильная натура!
— Или же рука у вас, пане, не в меру тяжелая. Что же нам теперь делать? Вы поймите, князь, что в избежание всяких кривотолков, впредь до разъяснения этого темного дела, неудобно оставить вас на свободе; до поры до времени вам придется посидеть также под арестом.
Курбский молча поклонился.
— Под домашним, конечно, — добавил от себя Димитрий, избегая, однако, взглянуть на своего друга. — Я за тебя, Михайло Андреич, ручаюсь перед паном гетманом.
— И на том спасибо, государь! — не без горечи поблагодарил Курбский. — Мне можно, стало быть, идти?
Глава девятая
ГОРДИЕВ УЗЕЛ
Второй день уже Курбский отбывал свой домашний арест. Кушанья ему присылались с гетманского стола на серебряных тарелках; не забывались даже обычные «заедки»: цукаты, марципаны, шептала, имбирь в патоке… Но Курбский едва к чему прикасался.
Снова наступил вечер, и Курбский, засветив свечу, раскрыл Евангелие, с которым не разлучался даже в походе. Не раз уже в святых поучениях нашего Искупителя находил он душевное успокоение и утешение. Теперь же мысли его с большим трудом следовали за тем, что читали глаза, и стоило ему закрыть глаза, как перед ним, точно наяву, являлось милое девичье личико, но бледное, скорбное и орошенное слезами. Он насильно отгонял от себя дорогой ему образ и принимался опять читать, принуждая себя всей силой воли вникать в деяния и слова Христовы. Как всегда, и на этот раз они постепенно оказали на него благотворное действие. Он, наконец, до того отвлекся от действительности, что не расслышал, как открылась за ним дверь, не заметил, как кто-то приблизился к нему тихой, кошачьей поступью. Только когда вошедший слегка тронул его за плечо, он вздрогнул и приподнял голову. Перед ним стоял старший из двух духовных советчиков царевича, патер Николай Сераковский.
— Сидите, сидите, сын мой, — заговорил патер ласково-грустным тоном, пододвигая себе другой стул. — Вы, я вижу, ищете последнее refugium (убежище) в Святом Писании? Ах, да! Земное счастие — неверный друг, несчастие же — честный враг, благодаря коему сколько заблудших обращается на путь истины!
Курбский давно убедился в двуличности этого, как он знал, тайного иезуита, а потому холодно прервал его вопросом, чему он обязан честью его посещения.
— Но без глубокой веры все-таки несть спасения, — продолжал Сераковский, точно не слыша его вопроса. — Ведь и вы, сыны греческой церкви, веруете в того же Всевышнего Бога, в того же Христа Спасителя, что и мы, приверженцы святого папского престола; для вас не менее, чем для нас, дорого слово Божье, особливо когда смертный час близок. Умирать и старикам-то тяжко, а в такие цветущие годы, когда жизнь еще улыбается, — о!..
Сердце в груди у Курбского сжалось, дыхание сперло.
— Что вы хотите этим сказать, преподобный отец? — спросил он. — Что и мой смертный час близок?
Патер устремил на него соболезнующий взор, но уклонился опять от прямого ответа: ему надо было подготовить почву для окончательного удара.