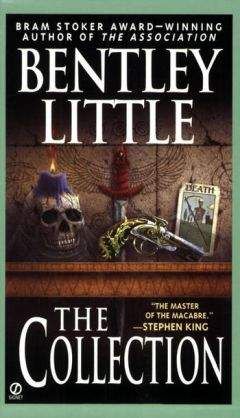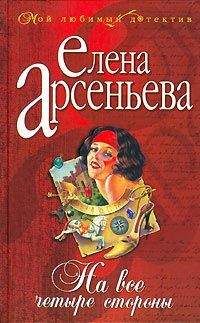Эдуард Шим - Мальчик в лесу
«Подожди, — сказала себе Вера Ивановна, — подожди, у тебя опять нелепые мысли. Что толку, если бы я знала все это, задумывалась об этом и переживала? Я помочь не могла и сейчас не могу тоже, и все переживания были бы пустыми, совершенно как у Дмитрия Алексеевича, который любит мучиться понапрасну…
Но почему понапрасну? Ты убеждена, что понапрасну?.. Не знаю», — сказала Вера Ивановна, сердясь на себя, и оглянулась, как будто испугавшись, что кто-то прочтет ее мысли.
…Сидя на подножке машины, Тимофей чем-то непонятным занимался: двигал пальцами, словно гадал на ромашке, отрывая за лепестком лепесток. В пальцах что-то шевелилось, крохотное.
Вера Ивановна приблизилась да так и ахнула:
— Тима! Что ты делаешь?! Брось!!!
— Щас, — сказал Тимофей, сосредоточенно трудясь. — Пять… шесть…
— Немедленно брось паука!
— Щас.
— Брось! Гадость какая!..
Тимофей поднял на нее бесхитростные глаза.
— Ну и чего? Обыкновенно, восемь ног. Я-то думал…
Он смотрел простодушно, и Вера Ивановна опять не разобрала, притворяется он или говорит серьезно.
— Как тебе!.. Ох, Тима, ты несносный человек! Зачем ты?..
— Дак сами спрашивали, сколько ног у пауков.
— А что, иначе нельзя сосчитать?
— Как сосчитаешь? Это невозможно, — сказал Тимофей, прищурился, и Вера Ивановна вздрогнула: возникла перед нею знакомая, характерная усмешка Дмитрия Алексеевича Лыкова, и голос был тоже знаком, лыковский голос, и вся фраза с этим бесподобным «невозможно!» принадлежала одному Лыкову, никому другому…
С ума сойти, что же это такое? Знакомым, лыковским жестом Тимофей потер ладонью подбородок. Вновь прищурился иронически. И Вера Ивановна поняла наконец, догадалась…
— Тимка!.. Ты где учишься? В Жихареве?
— Ну.
— У Дмитрия Алексеевича?
— Ну.
— Что же ты сразу не сказал, Тимка? Обезьяна ты несчастная, как не совестно?!
Тимофей отвернулся и нахально запел:
— «На корабле при-ехал! К себе домой мат-рос! Малютку-обезьянку из Африки привез!.. Сидит она, скучает!..»
— Тима!..
— Ну чего? Это стишки. «С-сидит она, ску-чает»…
— Да перестань орать! Ты зачем передразниваешь Лыкова? Где научился? Ах ты клоун!.. И потом, подожди-ка, ведь ты в Починке живешь? Сколько же километров до школы?
— «Я ч-четыре километра!.. Сзади поезда бежал!!..» — затянул Тимофей новую частушку.
Последние строчки у нее были такими, что Вера Ивановна поскорее уши заткнула.
3Позднее, когда она возвращалась обратно в Жихарево, сидела в автобусе, а за фанерными стенками его дробил, полоскался и кипел слюдяной в сумерках ливень и хорошо думалось под этот ливень, она вспоминала Тимофея и поняла, кажется, что он такое.
Он никого не передразнивал, вернее, передразнивал всех на свете; собственных слов и собственных мыслей у него еще не было, он копировал все происходящее вокруг, и, словно в чистом зеркальце, отражались в нем чьи-то характеры, чьи-то поступки, чьи-то переживания… В общем, так ведут себя все дети. Мы просто не замечаем, что они — отражение сегодняшнего мира. Вера Ивановна тоже как-то не замечала, не отдавала себе в этом отчета, хотя каждый день встречалась на работе с ребятишками, умела обращаться с ними и полагала, что достаточно изучила их. Но простая эта мысль не возникала у нее.
А теперь она представила себе, как Тимофей идет по земле, оплетенной голосами, криками, песнями, плачем, маленький человек в грохочущем мире; идет мимо разных людей, отражая их всех, бессознательно откликаясь, впитывая жесты, улыбки, гримасы, взгляды, ощущая пронзительно все мысли, душевные порывы и страсти людские, идет сквозь бесконечный человеческий лес, еще ничего не зная о нем, все выбирая дороги.
Над болотами откуда-то понесло, потянуло гарью; дыма не видать было, стеклянно морщился воздух, подымавшийся над холмами; все так же явственно виднелась фиолетовая черта леса, кривые одинокие сосенки, на которых птицы сидели — не то вороны, не то сороки, нахохленные и неподвижные; все так же четко в низинах, в густой воде печатались опрокинутые облака и белесое небо. Но запах гари делался ощутимей. Вера Ивановна различала его даже в кабине «козла», где трудно было дышать от бензина и махорки.
— Что это? Лес горит? — спросила она у Тимофея.
— Торф. По болоту горит, далеко.
— И что же… давно горит? Потушить не могут?
— Второй год, — равнодушно сказал Тимофей.
— Как второй год? Почему же не потушат?
— А попробуйте. Он внутри горит, в глубине. Сверху ничего не заметно. Только вода в бочагах греется да рыба дохнет. Вороны сидят, видите?
— Вижу.
— Вареной рыбой обожрались. Эва, неподъемные стали… Щас бы мне «тозовку», я бы им устроил компот.
— Тима!
— А чего? Они же поганые.
— Вредных птиц не бывает, — машинально сказала Вера Ивановна. — Любая птица в природе нужна и полезна. Тима, этот торф в одном месте горит?
— Почему в одном? Где хошь.
— Нет, я спрашиваю — только на этом болоте? Или еще где-нибудь? За Жихаревым, например? Где озера?
— Ну.
— Может там гореть?
— А он и горит.
— Так я и думала, — сказала Вера Ивановна.
— На озера Дмитрий Алексеевич пошел с пацанами. Рыбу спасать.
— Да, да. Я как раз вспомнила.
— Меня звали, а я не могу. Сезон потому что.
— Какой сезон?
— Охотничий, какой еще… А этих ворон все одно постреляю! — непреклонно сказал Тимофей. — Мало что невредные. Они цыплят таскают, паразитки, спасу нет.
— Тима… а там, на озерах, опасно?
— Опасно.
— Ты серьезно говоришь?
— Ну.
— А в каком смысле опасно?
— Живьем зажариться можно, — сказал Тимофей, щурясь. — Чуть зазеваешься — и все. Спекся. В прошлом годе училка спеклась.
— Одни туфельки с каблучками остались?
— Ага.
— Сейчас, Тима, я тебе уши надеру. И не грусти.
— Небось сами передразниваете! — упрекнул Тимофей и посмотрел на Веру Ивановну заинтересованно. — А вы где научились?
— От тебя, — усмехнулась Вера Ивановна. — Скажи, Дмитрий Алексеевич хороший учитель?
— Хороший.
— Он тебе нравится?
— Нравится.
— А чем нравится?
— Не знаю.
— Ну все ж таки? Что в нем особенного?
— Дак он мужчина, — поразмыслив, сообщил Тимофей. — А остальные — все училки, Международный женский день.
4Вдалеке, у фиолетовых лесов, медлительно и мягко зарокотало, будто картошку сыпали в гулкий фанерный ящик. Очевидно, гигантские тракторы приближалась, и сделался слышным их нескончаемый рев. Откликнулись болотные пространства, дрогнул воздух, и что-то невидимое прокатилось над топями, холмами и зарослями багульника. Встрепенулись вороны на кривых сосенках, закричали насморочными голосами.
— Гром гремит! — Тимофей поднял палец. — Вот он, Илья-пророк-то. Шурует на ракете.
— Надо же, — отозвался спереди Федор Федорович. — Подгадал дождь на праздничек, ах незадача!
Старик с расстегнутым портфелем возразил:
— Как раз удачно. Работать нельзя, пусть народ погуляет в ненастный день.
— Гляжу, добрый ты стал… кабы знать, кто этот чертов календарь составляет, — отступного бы не пожалел! Только чтоб не в моих деревнях гуляли.
— Традиция… — вздохнул старик с портфелем.
— Безобразие это, — сказал председатель. — На троицу сговорили меня новый праздник устроить: «Встреча колхозного лета». Чтоб не с пережитками, значит, а по-современному и культурно. Хорошо, стали готовиться. Оркестр я привез, настоящий оркестр из пожарного депо, — мастера, понимаешь, на всех похоронах в районе играют… Договор с ними заключил: дудеть до победы. А весь мой народ взял да и попер в деревню Маслюки, потому что троицу, видите ли, назначено в Маслюках справлять. А кто назначил, почему назначил — не добьешься!
Наверно, председателя разбередили воспоминания о неудавшемся празднике. Федор Федорович произносил свой монолог, все более кипятясь; в патетических местах он невольно нажимал на педаль газа, и пропыленный «козел» взревывал, как бы поддерживая хозяйский гнев.
— Ты руководитель. Должен учитывать обстановку! — назидательно произнес старик с портфелем.
— Курс, что ли, менять?
— И курс менять. Гибкость нужна руководителю, трезвость нужна, постоянное… Обожди-ка. Что это впереди?
— Комбайн, — сказал председатель неохотно.
— Твой? Ты что же технику гробишь? Бросил в болоте.
— Не бросил. Позавчера из Жихарева гнали, да паренек неопытный, завязил.
— Ай-яй! — Старик с портфелем нацелился своими очками на облупленный, голубой в крапинку агрегат, преградивший дорогу. — Позавчера, говоришь?
— Угу.
— Н-да… Он тут месяц валяется. Его птицы обсидели.
— А ты разбираешься! (Председательский «козел» опять начал взревывать.) Разбираешься в птичьем добре. Отличаешь лесное от деревенского!