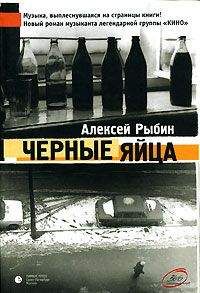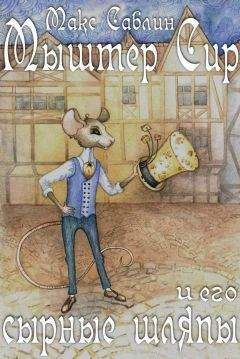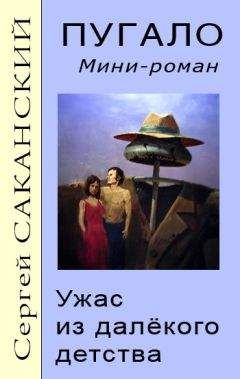Александр Шаров - Маленькие становятся большими (Друзья мои коммунары)
Память у Мотьки безошибочная. Говорит он, чуть подражая подслушанным голосам, и перед ребятами, сгрудившимися вокруг Ласьки, возникает картина всего происходившего этажом ниже, в кабинете заведующего коммуной, между Тимофеем Васильевичем, папским нунцием и детдомовским доктором.
— Тимофей Васильевич… — продолжает Мотька.
Но закончить ему не удается. Ласька приподнимается на локте и тихо спрашивает:
— А кто тебе велел подслушивать! Кто тебе дал такую комсомольскую нагрузку?
Он оглядывает ребят потемневшими глазами, и они уже не знают, радоваться ли тому, что скоро привезут вкусные и редкостные вещи, или тревожиться, как тревожатся от не совсем понятных для большинства ребят причин Тимофей Васильевич и Ласька.
…Так начинается этот вьюжный день, надолго запомнившийся нам… В двенадцать часов стало известно, что продукты привезены, и старшие ребята выбегают во двор, чтобы разгрузить машину.
А в три часа звонок созывает в подвальный этаж, где расположена детдомовская столовая, на обед. Как только ребята рассаживаются за длинным столом, дежурные вносят медный котел с рисовой кашей; необыкновенные ароматы наполняют подвал.
Вслед за кашей другая пара дежурных тащит невиданной белизны хлеб. А за дежурным появляется высокий, полный человек; мы сразу узнаем его, хотя одет он не в оленью доху, а в длинную, падающую прямыми складками коричневую сутану.
Он и сейчас стоит перед моими глазами, как два десятилетия назад, человек в сутане: тяжелый, с бледным, оплывшим лицом, со зрачками, поднятыми вверх и уходящими под набухшие веки, с крестом на груди и пухлыми руками, покоящимися на витом черном шнурке, свободно опоясывающем живот. Он и сейчас возникает как бы за расплывающимися радужными кругами, которые тогда, в давние годы детства, вызывались соединенным действием голода, застилающего глаза, и рисовых паров, переполнивших подвал столовой.
И до удивительности отчетливо вспоминается голос человека в коричневой сутане, с еле заметным чужим акцентом цедящего длинную речь о заблудших советских детях, о святом отце в Риме, который пожалел заблудших детей, о господе боге, кротким ликом взирающем на ниспосланную святым отцом рисовую кашу и благословляющем ее.
Я помню, как сперва слова человека в коричневой сутане вызывали только недоумение: скорей бы уж он кончал и дежурные погрузили бы половники в пузырящуюся кашу. Потом от слов этих начал копиться тягостный осадок. Он оседал в сердце, мешал дышать, чем-то таким лживым входил в промороженный до последнего кирпича подвал, что даже самые младшие коммунары, почти не понимавшие слов папского посланца, растерянно и недоумевающе поглядывали на старших ребят, точно спрашивая: «Долго еще этот поп будет нести свою околесицу?»
И когда поднялся со своего места Ласька, все, от самых маленьких до самых старших, почувствовали облегчение, и каждому стало понятно, что секретарь комсомольской ячейки больше не мог, не должен был, не имел права ждать.
— Хватит! — звонким мальчишеским голосом проговорил Ласька.
Он махнул рукой, и, угадывая его команду, дежурные подхватили тяжелый котел и понесли вверх по лестнице.
А за дежурными в строгом порядке двинулся детдом, вся наша коммуна, в этот момент совсем забывшая и о голоде, и о холоде. Она шла, грозно топоча по каменным ступеням вытертыми подошвами. А впереди, не оглядываясь, испуганно подобрав полы, бежал человек в рыжей сутане.
«Долой, долой монахов, раввинов и попов!» — изо всех сил выводили ребята десятками дружных голосов.
Коммуна двигалась по лестнице за рыжей сутаной, поднималась вверх, шла на приступ, так что могло показаться, что и не простая это угроза то, что всё громче и громче звучало в такт шагам: «Мы на небо залезем, разгоним всех богов!..»
Она поднималась по лестнице, шла на приступ, двигалась легким шагом голодных, иззябших, но никогда в короткой жизни не крививших душой, от рождения неподкупных детей революции.
Она горланила эту песню оглушительно громко, стоя в глубоком снегу, пока сутана заползала в кабину автомобиля, пока дежурные выплескивали кашу под колеса, а машина, буксуя в снегу и каше, вывозила папского посланца со двора коммуны.
Она повторяла эту песню снова и снова, заглушая вой метели, чтобы рыжая сутана уразумела и запомнила ее.
«Мы на небо залезем, разгоним всех богов!» — грозно и весело предупреждал детдом.
…Поздно вечером в спальню пришел Тимофей Васильевич, которого весь день не было в коммуне. Он долго, далеко за полночь, пересаживаясь с койки на койку, рассказывал нам о своих встречах с Лениным, а это означало, что у него отличное или, как говорил наш доктор, «победоносное» настроение.
Очевидно, он уже во всех подробностях знал о том, что произошло во время обеда, потому что то и дело, перебивая себя, повторял:
— Будьте уверены, что этот поп запомнит сегодняшний день; думается, он и в Риме расскажет о нем, и, может быть, сообразит, что сие достойно размышления, ибо знаменует торжество и утверждение новой породы людей — неподкупных, а следовательно, для мира золота неуязвимых.
СИЛА КОММУНЫ
Неожиданно началась оттепель.
Второй день вперемежку падает мокрый снег и льет дождь, все пропиталось сыростью — и стены, и простыни, и одеяла. У Мотьки болит зуб, и он гудит, как жук; странная это привычка появилась у него — гудеть.
На уроке истории Тимофей Васильевич спрашивает, как погибло древнее Вавилонское царство. Но я все забыл, хотя утром знал назубок, даже рассказывал Мотьке. Еще Мотька удивлялся, почему древние царства погибали обязательно от трех причин.
…Я молчу и вожу рукой по карте древнего мира. На ощупь Вавилонское царство холодное и скользкое; оно тоже отсырело. Должно быть, и в Месопотамии идет дождь, но не как здесь, а тропический ливень. Вода давно вышла из берегов Тигра и Евфрата и затопила поля.
Тимофей Васильевич, наверно, думает, что Мотька гудит от избытка мыслей, и вызывает его мне на помощь.
— Вавилонское царство распалось от трех причин, — решительно начинает Политнога и замолкает, а когда пауза переходит все мыслимые пределы, слабым голосом спрашивает: — Тимофей Васильевич, почему все царства гибли от трех причин?
— У гимназистов больше не умещалось на шпаргалке. Очень просто. Но каким образом то же самое происходит и у тебя с Алешей, не знаю. Садись и подумай!
Мы садимся, и Мотька сразу начинает жужжать, тихо, но еще тоскливее, чем раньше. Крупные капли падают на окно; едва одна капля растеклась и стекло сделалось прозрачным, падает другая.
— Где Колычев? — перед концом урока спрашивает Тимофей Васильевич.
— Болен… кажется, — неуверенно отвечает Лида.
Но Ленька Колычев совсем не болен. С самого утра он ходит по спальне из угла в угол, бледный, с красными пятнами на щеках: значит, на него «накатило».
— Опять дуришь? — окликает Егор.
— «Дурю»? — останавливается Ленька. — Знаешь песенку:
А старший брат мой был лягавый,
Хотел за мною проследить.
Но как узнал, что я с наганом,
Боялся близко подходить.
Махнув рукой, Лобан поворачивается к стенке.
Братьев Колычевых — Леньку и Бориса — год назад привел в коммуну Тимофей Васильевич. Ленька показался ребятам грубым и нелюдимым, а старший брат, Борис, был очень вежливым, никогда не забывал сказать «благодарю вас», улыбаясь при этом и глядя прямо в лицо.
В свободное время он часами стоял у окна спальни, не сводя глаз с сада и спускающейся к реке тропинки. От его круглой, коротко остриженной головы на пол падала тень, напоминающая чайник.
Была у Бориса одна важная отличительная черта: он в совершенстве разбирался во всех механизмах, какие только имела коммуна, как бы обладал властью над ними.
Вещь, нуждавшуюся в починке, он брал осторожно, вытерев перед тем белой тряпочкой с необыкновенной тщательностью вымытые руки, и долго рассматривал. Потом принимался за работу.
Он починил стенные часы, насос, электростатическую машину и медные магдебургские полушария из физического кабинета.
На картинке в учебнике было изображено, как конные упряжки тянут полушария в разные стороны, а они, сжатые снаружи атмосферным давлением, не поддаются, хотя два сердитых человека в цилиндрах и длинных сюртуках всячески понукают коней. Лошадей у нас нет, но, когда Борис выкачал воздух из полушарий и продел веревки в ушки, все коммунары разделились на две группы и долго тянули полушария, стараясь разъединить их.
Борис стоял у окна, как обычно разглядывая тропинку, спускающуюся по косогору. Совершенно уверенный в приборе, он потерял к нему интерес; вообще его занимали только вещи, нуждавшиеся в починке, и дружил он только с младшими, самыми слабыми ребятами, которым надо было покровительствовать.