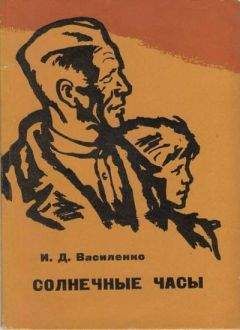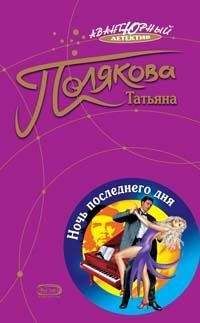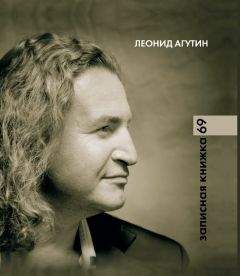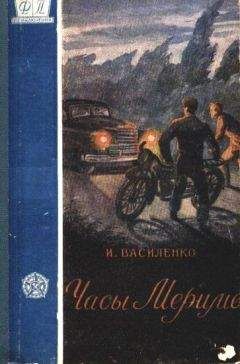Иван Василенко - Подлинное скверно
— Ась?..
— Я спрашиваю, вы были во дворе, когда ремесленник Курганов ругал вашего барина?
— Я всегда во дворе. На то я и сторож. Там бочки стоят с селедкой, опять же кожа свалена под забором… Мне отлучаться невозможно… Ежели что пропадет, с кого спросят? С Жучки?
— Э, да вы не о том. Я спрашиваю, вы слышали, как Курганов оскорблял господина Прохорова, барина вашего?
— Ась?
— Опять «ась»!.. Вспомните, свидетель, ругался Курганов, вот этот человек (председатель пальцем показал на Павла Тихоновича, молча стоявшего тут же в почтительной позе), или не ругался? Оскорблял или не оскорблял?
— Зачем же оскорблять? Оскорблять нехорошо. Есть, конечно, дураки, которым море по колено. Вот у свата моего, Терентия, племянник… Напьется, непутевый, и ну выражаться… А то и кулаками в стенку стучит… Целый Содом с Гоморрой…
— Свидетель, вы слушайте внимательно, о чем я спрашиваю. Я спрашиваю: вы слышали, как Курганов разговаривал с вашим барином? Что он, Курганов, ругался или нет?
Лицо у сторожа сморщилось.
— Ваше скородие, отпустите меня за ради бога, — Сказал он жалобно. — Ну разве это мое дело — в хозяйские разговоры встревать? Приказал мне барин вывести Павла Тихоновича со двора, я и вывел. Вот с кучером Михеем вместе выводили. А за что, про что, это не мое дело… Я пойду, ваше скородие, а то как бы худой человек во двор не пробрался. Там бочки стоят с селедкой, опять же кожа ничем не прикрытая.
— Господин председатель, разрешите задать свидетелю вопрос? — спросил стряпчий.
По лицу председателя катились крупные горошины пота. Он вяло кивнул.
— Свидетель, скажите только одно, — обратился к сторожу стряпчий, — здорово ругал ваш барин Павла Тихоновича или не здорово?
— Как же не здорово? — будто даже обиделся за Прохорова сторож. — Наш барин уж коли ругнет, так будь здоров, по гроб жисти запомнишь.
— Вот это и требовалось знать! — торжествующе воскликнул стряпчий. — Господин председатель, я прошу занести в протокол показания свидетеля о том, что господин Прохоров оскорблял моего доверителя и делал это, по словам свидетеля, очень здорово.
Чеботарев так и рванулся к столу:
— Господин председатель, я решительно протестую против этого требования господина спряпчего. (Слово «стряпчего» присяжный поверенный произнес с нескрываемым презрением.) Он задал нарочито провокационный вопрос этому темному человеку, и ответ свидетеля при, таких обстоятельствах не может быть принят во внимание.
— А я считаю, господин председатель, что протест господина присяжного поверенного не может быть принят во внимание судом. Что же получается? Если богатый человек оскорбляет бедного, то это в порядке вещей, а если: на брань богача бедняк отвечает словами человеческого достоинства, то его надо сажать в арестный дом? И кто же защищает такой, с позволения сказать, порядок? Присяжный поверенный Чеботарев, готовящийся баллотироваться в Государственную думу от конституционно-демократической партии. Хорош демократизм у кадета Чеботарева!..
Последние слова стряпчий выкрикнул под отчаянный звон председательского колокольчика и оглушительные хлопки в зале.
От лица Чеботарева кровь отхлынула, губы у него дрожали, глаза с яростью перебегали с председателя на, стряпчего, со стряпчего — на хлопавшую публику.
— Поверенный! — рявкнул председатель. — Не смейте касаться здесь политических вопросов! Делаю вам строгое замечание и предупреждение! А публику прошу не хлопать! Здесь не театр!
— Слушаюсь, господин председатель, — сказал стряпни с почтительным поклоном. — Прошу суд принять мои извинения.
Легко извиниться после того, как удар по противнику уже нанесен. И это в зале хорошо поняли: многие ухмылялись, перемигивались.
— Ну, я пойду, — сказал сторож и, не ожидая разрешения председателя, направился к двери. Проходя мимо Павла Тихоновича, он поклонился ему в пояс и с дрожью в голосе проговорил: — Прости меня, Павел Тихонович, что давеча вывел тебя со двора. Не по своей воле сделал это: прости старого пса.
Председатель объявил перерыв, и суд удалился, но в зале никто не двинулся с места: не стесняясь, люди громко разговаривали, перекликались, смеялись. Своим смелым и острым выступлением стряпчий будто развязал обычную сдержанность публики в судебных учреждениях. Да и сама публика, надо сказать, сегодня была необычная.
Когда заседание суда возобновилось и суд перешел к рассмотрению вопроса о неуплате Прохоровым Павлу Тихоновичу большей доли заработка, стряпчий Иорданский показал великолепные познания в орнаментике, греческой мифологии и столярном деле. Он блестяще доказал, что мастер, заменив Бахуса на бочке виноградной лозой, вложил значительно больше труда в порученное ему дело и проявил тонкий вкус, достойный «прекрасной обитательницы каюты, дочери Прохорова, очаровательной мадемуазель Дэзи». Чеботареву ничего не оставалось делать, как требовать, чтобы суд исходил в своем решении из формального признания того, что рабочий не имеет права по своему усмотрению менять характер работы, порученной ему нанимателем, чем бы это вызвано было. Во время его речи в зале кто-то сказал чистым ранним баском:
— Вот и пошли такого в Государственную думу. Он тебе напишет законы, останешься доволен
Председатель тряхнул звонком и приказал нарушителя порядка покинуть зал заседания. Но никто не вышел. И Чеботарев закончил свою речь напыщенными восклицаниями, что демократизм — это одно, а анархия — другое и с нею надо бороться всеми средствами.
Суд опять удалился, и опять из зала никто не вышел.
Прошло, наверно, не меньше часа, прежде чем раздался голос нашего сделанного из папье-маше секретаря:
— Суд идет! Прошу встать!
Председатель, необычно комкая слова, проговорил принятые в таких случаях фразы и еще менее внятно закончил:
— …а потому съезд мировых судей постановил: решение мирового судьи седьмого участка оставить в силе.
Иорданский вздохнул и развел руками. Некоторое время в зале стояла гнетущая тишина. Вдруг тот же молодой басок сказал:
— Господа царские судьи, а нельзя ли мне отсидеть в арестном доме вместо невинно осужденного вами Курганова? Я молодой и крепкий, а Курганов много поработал за свою жизнь для граждан нашего города, ему это будет трудно.
Председатель фыркнул, что-то пробубнил, и судьи гуськом пошли из зала.
— Будь вы трижды прокляты! — сказала сморщенная старушка и перекрестилась.
— Чтоб вы подохли! — в тон ей отозвался кто-то хрипло.
Сухонький старичок в синей рабочей блузе встал на скамью и бодро сказал:
— Братцы, нам это дело привычное: ежели с кем беда случается, один из нас снимает шапку, а остальные кладут в нее кто сколько может. Поддержим товарищи Курганова в его хорошем деле! Ну-ка, подходи! — и подставил кепку.
Со всех сторон к ней потянулись руки.
— Получи и от меня, — сказал крепко сложенный паренек своим свежим баском.
Я взглянул ему в лицо — и вдруг почувствовал, как на меня повеяло чем-то далеким и родным.
— Илька! — вскрикнул я. — Илька!
Паренек вздрогнул, глянул на меня и удивленно раскрыл рот. Но тут же сдвинул густые брови и резко сказал:
— Никакой я не Илька. Путаешь, браток.
Собранные деньги вручили Павлу Тихоновичу. Принимая их, он сказал:
— Спасибо, братцы. Беру, не отказываюсь. Мне самому ничего не требуется. Но надо ж доказать голландцу, что и у русских есть головы на плечах. А отсидеть — отсижу. Это не позор. Позор тем, кто сажает меня.
Все стали расходиться. Паренек шагнул ко мне и негромко сказал:
— Говори, где живешь. Живо.
— Ярмарочный, шестьдесят шесть, — обрадованно ответил я.
ПОДЛИННОЕ СКВЕРНО
Когда присяжный поверенный и стряпчий стали друг против друга, готовые к состязанию, у меня еще оставалась надежда, что разбирательство дела не состоится. Я ждал, что Чеботарев раскроет свой богатый портфель, вынет из него лист бумаги и зачитает просьбу Прохорова к суду о прекращении «дела». Этого не случилось, и я с горечью почувствовал, что никогда, никогда в течение всей своей жизни у меня не будет к Дэзи уважения. Состояние было такое, будто я утерял что-то драгоценное, без чего жизнь станет неинтересной, скучной, неприятной. Стряпчий делал против Чеботарева один выпад за другим, и с каждым ударом во мне разгоралось мстительное чувство: мне казалось, что моральному разгрому подвергался не только богач Прохоров, точнее, не столько богач Прохоров, сколько его бессердечная красавица дочка. Стало легче, когда я увидел, как живо и согласно выражали люди в зале свое сочувствие Павлу Тихоновичу и негодование по адресу судей. Но все-таки в душе у меня щемило, и неожиданное появление Ильки было как нельзя более кстати: мне так недоставало жизнелюбивого, уверенного в себе товарища! Уже одно сознание, что Илька жив и находится где-то здесь, близко, подняло мой дух. Я почувствовал, что даже походка у меня стала более твердой.