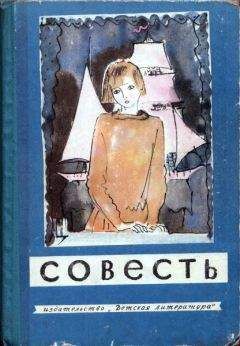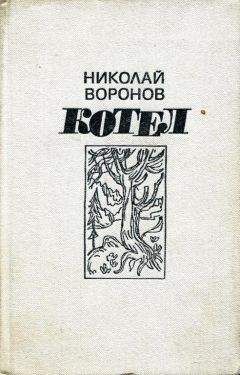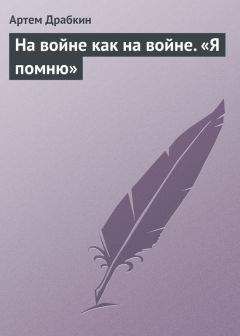Николай Воронов - Голубиная охота
— Мама говорила — три.
— Вот и упомни тебя.
Маше стало жалко мать: бледная, верней желтая, усталая, пожилая. Ей вдруг захотелось бежать, бежать из этого дома и никогда сюда не возвращаться. Но она сдержала себя. А отец сказал:
— Крохой, Маша, ты страшненькая была. Не гадал, не думал, что ты выправишься… Красавицей сделалась! Лиза, скажи, а?!
— Ты бы не внушал дочке, чего не нужно. Возьмет да вберет в голову что-нибудь такое. Рано ей собой любоваться. Ой, что же мы, Машенька, и не спросим, как ты добиралась.
— До Домодедова на самолете Ил-18.
— И не забоялась?
— Не. С аэродрома до Москвы электричкой. До вас на тепловозе.
— Вот и ладно. Только надо было известить… Встретили бы. Такси взяли.
— Я люблю ездить на пешкомобиле.
Константин Васильевич, застенчиво смотревший на дочь, улыбнулся.
— Самый надежный транспорт.
Он потер о вельветку руку и словно положил на воздух перед Машей.
— С приездом, девочка.
Потянул было дочь к себе, но вдруг насупился, затоптался на месте. Немного погодя поднес ее ладонь к глазам, углядел на ней белый зигзаг и вздохнул:
— Так и осталась метка. Знаешь, от чего?
— Мама рассказывала.
Однажды Маша (было ей годика полтора) несла в тонком стакане воду, чтобы полить на балконе цветы, упала. Отец собирался на охоту, бросился на крик, увидел, кровь бьет из ручонки, перехватил запястье шнуром, в охапку ее и бежать в больницу. Был в болотных сапогах, а бежал как олень. На охоту, конечно, не поехал. И шибко переживал, пока не зажила ладошка.
Рассказ про этот случай мать заключила возмущением:
— И все-таки бросил! — И, сникая, недоуменно спрашивала саму себя: — Почему люди меняются?
— Машенька, — сказала Лиза, — ты давай полезай в ванну. Освежишься с пути. Мы тем временем кое-что сообразим.
Моясь, Маша слышала беготню в квартире и хлопанье дверей. Посмеивалась над собой: «В честь моего приезда готовится прием. Не хватает только Георгиевского зала, правительства и космонавтов».
Ей нравилось сиянье широконосого крана, вода, колебания которой отражались скаканьем зайчиков на стенках ванны, и собственное тело; оно было легкое, золотеющее от чуточного загара; она рассматривала его, гладила, чувствовала, как собственный взгляд и эти поглаживания вызывают волнение, сопровождающееся желанием сжаться в комочек.
Возле двери в комнату ее встретил мальчуган. Он держался за плитку шоколада, торчавшую из кармана распашонки. Маша догадалась, что это Игорешка. Подняла его и, заслоняя им лицо, вошла в комнату.
Отец забрал у Маши брата и сказал:
— Не бойся, рабочий класс не сглазит тебя. Сглаз лишь в деревне случается. Да, Лиза?
Люди, находившиеся в комнате, засмеялись. Наверно, вспомнили какую-то, рассказанную Лизой, историю про сглаз. Корабельников предполагал, что жена рассердится, и, когда она ткнула его в бок, охнул и засеменил вокруг стола. Все опять засмеялись.
Маша села рядом с Лизой, и та объяснила ей, что у них всегда весело дурачатся в компаниях.
Отчим не любит компаний. Особенно дома. Сходит к магазину, с кем-нибудь раза три «нарисует» бутылку и припрется чесать кулаки. Хотела сказать об этом Лизе, но передумала.
Отец поднялся и предложил выпить за Машу.
Гости — подъездные соседи Корабельниковых — загудели, закивали, одобряя тост. Рыжий худющий машинист коксовыталкивателя Коля Колич — так называла его Лиза — подошел к Маше со складным алюминиевым стаканчиком, наполненным водкой.
— Головастая молодежь растет. И ты, должно, толковая. За тебя и за всю молодежь. Чтобы не выпала на вашу долю война, как на нашу с твоим отцом.
Маша чокнулась с Колей Количем, с отцом, с Лизой и с теми женщинами и мужчинами, кто дотянулся до ее рюмки. Пить не стала — приложила губы к рубчатому стеклянному боку. Коля Колич похвалил ее за это и стал высказываться: дескать, обвиняют современную молодежь, что она пьет, а она пьет, да не вся — тому примером Константина Васильевича дочка.
Впервые Маша казалась себе взрослой. Никогда раньше не устраивались ради нее застолья.
Отец следил, чтобы Маша ела. Подкладывал свежих огурчиков, красновато-перечного карбоната, нарезанного тонкими пластиками, сазаньей икры, которая похрустывала на зубах рыжими поджарками.
Интересно, если б сейчас рядом сидел Владька, ухаживал бы он за ней? Куда ему? Галуа… А кто такой Галуа? Надо посмотреть в энциклопедии.
Тут Лиза обнаружила, что Игореша давеча, в коридоре, не отдал сестре шоколад. Она принялась его журить, но Маша выручила: соврала, что у нее отвращение к шоколаду.
— Она к шоколадкам не привыкла, — внезапно по-взрослому заявил пятилетний Игорешка.
Пили часто, как бывает, когда приятный повод и гости дружны и веселы. Тосты говорили то Коля Колич, то его жена — вахтерша с металлургического завода, сидевшая за столом в черной суконной гимнастерке.
Тост за знакомство Маши с батькой и Елизаветой. Тост за то, чтобы не забывать родителей. Про себя Маша добавила: «Чтоб отцы не бросали детей». Чтоб снижались цены на продукты и товары. Чтоб уладилось с китайцами. Константин Васильевич отяжелел, сами собой смыкались веки: пять смен отработал в ночь.
Маша сочувственно спросила его:
— Не пора ли тебе поспать?
— Правильно, — сказала Лиза. — Чего перемогаться? Отдохни. Вечером пойдете с дочкой на море. Игорешку захватите. Я хозяйством займусь.
Маша не надеялась, что он пойдет спать. По Железнодольску знала: никто из мужчин не ложится спать, пока в компании не выпивается подчистую вся водка, а другую уже негде или не на что купить. И велико было ее удивление, что он не оскорбился, не стал куражиться, не взглянул на початые емкости с поблескивающей дрожащей «Столичной» и даже сказал:
— Ты меня, дочка, не суди. Уходила меня ночная смена.
— Укатали сивку крутые горки, — сказал Коля Колич и прибавил, весело повысив голос: — Жизнь, жизнь, хоть бы ты похудшела.
— Иди, папа, иди.
— Лишний раз убедился — сознательный у нас род. Раскопаю, что за прабабушка с прадедушкой заквасили в нашем роду эту линию, обелиск поставлю.
Смеясь, Лиза ткнула мужа в плечо.
— Иди, обелиск.
Маша отодвинула стул, чтобы отец мог пройти между столом и комодом в детскую. Опять удивилась, почему создалось у матери впечатление, что он лесина.
— Мама все твердила: ты во какой! — она вскинула над собой руку. — Почему?
— Усадка произошла. Старые растут в землю, молодые — в небо. И женился на низенькой. Подлаживаюсь. Пропорцию надо соблюдать.
Место Константина Васильевича попеременке занимали гости. Первым подсел к Маше Коля Колич. Тем, что был прост — весь на виду до самого донышка души, он сразу понравился ей. Коля Колич спросил, думает ли Маша учиться после десятилетки. Маша собиралась учиться, только пока не решила — в каком институте. Коля Колич огорчился.
— Я-то подумал — пойдешь на завод. Биметаллическую сетку, к примеру, ткать, стерженщицей у электрической печи…
Перед тем как увести Колю Колича на прежнее место, охранница в черной суконной гимнастерке попросила Машу не судить его за докучливость и с гордостью промолвила:
— Он у меня патриот рабочего класса!
Потом к Маше подсаживались асфальтоукладчица с ладонями, смазанными зеленкой, слесарь электровозного депо, водопроводчик из доменного цеха, аккумуляторщица, мотористка транспортера. Они расспрашивали Машу о ней самой, о матери, про отчима, охотно рассказывали о своем производстве, о себе, о родственниках. Интерес, который они испытывали к Маше, к ее окружению и к тому, что занимало ее и это окружение, их добросердечность и откровенность так трогали ее, что она чуть не заплакала. Из взрослых такой по-родному пристальный интерес ко всему, чем она жила, проявляли в Железнодольске лишь мать да англичанка Татьяна Петровна. Конечно, было бы иначе, если бы у Маши выдавалось побольше времени, когда бы не надо было бояться, что не успеешь приготовить уроки, убрать в квартире, сварить обед, помочь матери в гастрономе, и если бы отчим знался с хорошими людьми и разрешал Маше наведаться к соученицам домой. Стоило Маше забежать к подружке, поболтать с ней да посмотреть телевизор или послушать ее игру на пианино, отчим обязательно узнавал об этом, изводил мерзким словом «похатница».
Когда отец проснулся, гости уже разбрелись. Он, Игорешка и Маша спустились по улице Верещагина к зеленому дебаркадеру и поднялись на второй этаж, в ресторан.
Ни угла суши, который бы назывался стрелкой, ни грузового порта, над которым бы, обратив друг к другу клювастые головы, замерли краны, словно думая о чем-то печальном и важном, ни плавучих вокзалов, откуда водой можно доехать до двух морей, — ничего такого в родном городе Маши не было.