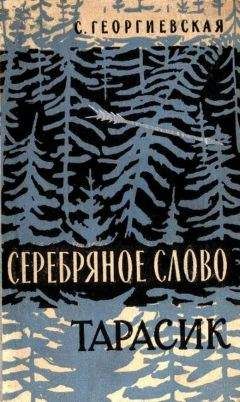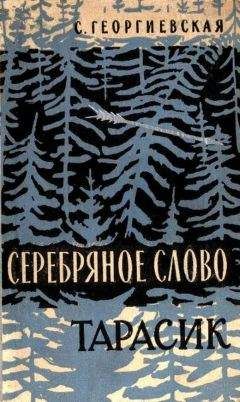Сусанна Георгиевская - Серебряное слово ; Тарасик
— А далеко еще ехать, Авксентий Христофорович?
— Далеконько.
«Этот не скажет, что близко. Разве он скажет хоть что-нибудь, чтобы утешить человека?!»
— Вот мы тут едем, Валерия Александровна, себя клянем, а под ногами нашими, может, золото!.. Вон горы… Да нет, не туда смотрите, за опушкой, далече, видите?.. Так там, говорят, и никель есть, и серебро, и медь самородная. И ртуть… И железо, и слюда, и камень самоцветный… Там, может, счастье, в этих горах…
— Ага…
Последний привал. Сегодняшняя ночь будет последней в пути. И это хорошо. Это очень хорошо. А о дороге назад лучше не думать, как не думает боец о том, что завтра снова бой.
…Ночь. В городе она как будто короче. А как велика в тайге ночь! Не длиной велика — велика величием.
Вот опрокинулся над тобой ее тяжелый купол.
Тихо идет она, неслышным шагом. Нет, не идет, стоит. Стоит и пьяно дышит тысячей ночных дыханий. Она и в длинных тенях у каждого дерева, и в этом костре, и в равномерном хрупанье лошадей. Разве ночь это только тьма? Нет. Ночь — это отдых и покой. И хочет отозваться ему человечье сердце, да не умеет. Не отзывается оно на покой покоем. Хоть и величиной с ладонь, а бьется, и трепещет, и стучит.
А ночь недвижна. Молча стоит она и шарит огромными своими волосатыми руками на поляне и в тайге. Тьма, безветрие. И не нарушить этой тишины, не пробить этой тьмы ни ветру, ни звезде.
Ночь… ночь!..
Хруп-хруп-хруп… Это лошади бродят в темноте — щиплют траву.
А сколько ты, лошадь, прожила лет? А тяжело тебе было, лошадь? Не помнишь? А вот человек помнит. И страдание, и радость, и горе, и любовь.
Тяжело носить человечью память, тяжелее, чем мешки, которые сбили тебе спину.
У лошади памяти нет… А у человека есть память. Только лучше бы ее не было!
Это случилось почти три месяца тому назад. Она ехала из Москвы в Туву.
Часу во втором автобус остановился у парома: впереди был Кызыл. Виднелись его бисерные огни по ту сторону Енисея. Частые, мелкие, не слишком яркие.
Автобус ждал: паромщик, должно быть, пошел спать.
В раскрытые окошки, в темноту, духоту и тесноту автобуса входила ночь. Пахло рекой. Слышался ее негромкий плеск. Река билась о балки. Из окошек видны были деревья — кажется, кедры.
Наконец Вадим и ненавистный Лере молоденький лейтенант милиции (с которым Вадим Шумбасов до того подружился в дороге, что даже пересел с ним на одну скамейку и пил воду с ним из общей фляжки) вышли из автобуса и отправились искать паромщика.
Она слышала звук их удалявшихся шагов, смех, голоса…
Потом ей ничего не стало слышно. Только река по-прежнему билась о балки.
И тут она вдруг поняла, что скоро, скоро эти шаги затихнут совсем, навсегда: впереди Кызыл.
Она не увидит больше с верхней полки вагона его волос, затылка, не услышит его сочного, как будто всегда чем-то обрадованного голоса. У них не будет больше общего чайника. Он больше не станет дразнить ее «растяпой, раззявой», не будет подхватывать на лету ее слетевших с верхней полки косынки, носка, майки… Не спросит: «Лера, а не хотите ли плавленого сырка?»
Тогда ей казалось: скорее бы Абакан!
Ан нет! То было счастье: все — и остановки, и пролетавшие за окном ночные огни, и его сонное дыхание, и его коричневые ботинки, снятые на ночь.
У его ботинок был косолапый шаг. Они стояли носками внутрь — беспомощные, немного неуклюжие — и казались большими детскими башмаками. Широко раскрыты были их темные рты. А рядом, притулившись, валялись ее сброшенные с верхней полки белые туфли.
Они шли рядом — по общей дороге. Едва поспевали за шагом коричневых башмаков болтавшиеся ремешки парусиновых Лериных туфель.
И все! Конец дороге.
Она больше не станет ловить его напряженного и пристального взгляда на своих губах, когда прочтет ему торопливым шепотом стихи Омара Хайяма. Он не обругает ее будущую работу библиотечного методиста «фанаберией и глупостью». Она не рассердится. Они не будут глядеть вместе из окна поезда на мелькающую желтую траву, березки, сосенки. Его рука не ляжет больше невзначай на ее плечо. Она не спросит строго: «В чем дело, Вадим?» — и не скинет его руки со своего плеча. Он не захохочет в ответ, глядя пристально в ее глаза, пока она со злобой и яростью не опустит своих. Не будут больше лететь ей навстречу из открытых окошек пыль, гарь и острые угли. Уголек не попадет ей в глаз. Старый геолог-попутчик не скажет, зевая: «А ну-ка, доктор Шумбасов, приступите к своим обязанностям», — и он не вытащит из ее глаза уголек, приговаривая: «Беда мне с вами, Лера. Беда! Просто беда!..»
Все!
Не будет рядом его серьезности, наглости, шутки, беспечной заботы о ней…
Не будет этого открывшегося ей таинственного и страшного мира — его взгляда, его рук, его голоса.
Конец дороге. Довез. Впереди Кызыл. Вот он ушел за паромщиком, и не слышно больше его шагов.
В окна автобуса входил острый запах неподвижной, безветренной ночи. Дремал на руках у молодой матери, ехавшей на работу в Кызыл, грудной ребенок. Рядом сидел молодой отец. Его голова то и дело наклонялась и падала на плечо жены. Он просыпался, вздыхал… Но глаза слипались опять, и снова падала, опускалась голова с торчащим на макушке хохолком. Несколько секунд было слышно в автобусе его громкое и сонное дыхание.
На передней скамейке, рядом с шофером, сидел лысый бухгалтер. Он ехал в Кызыл ревизовать кожевенный завод.
Бухгалтер всю дорогу угощал соседей конфетами. «Театральные»!.. — говорил он, лукаво подмигивая. — Наши, московские. Попробовали бы, а?!»
Рядом с Лерой сидела белокурая татарка, а рядом с татаркой — демобилизованный солдат. Они познакомились в дороге. Татарка и солдат тихонько обнимались в темноте.
На последней скамейке, подобрав под себя ноги, курила женщина-врач, по фамилии Шарапенко. Ее звали Анастасия Федоровна. Она была старожилкой Тувы и хорошо знала Шумбасова. (В Туве все врачи знают друг друга).
Шарапенко возвращалась на место работы — в западные районы — после двухмесячного отпуска.
Это была немного грузная женщина с темным пушком над верхней губой. Она была интеллигентна и, словно все время вступая в спор со своей интеллигентностью, разговаривала резко и грубовато.
Всю дорогу, особенно когда автобус шел быстро, Шарапенко рассеянно и в то же время внимательно смотрела в окно. При этом она пыталась петь. Голос у нее был низкий, немузыкальный.
…О память сердца,
Ты сильней
Рассудка памяти печальной…
мурлыкала Шарапенко.
Леру она называла «девочка». Вот и сейчас сказала:
— Девочка, давай садись рядом. Пока придет паромщик, отлично выспишься…
— А мне вовсе не хочется спать!
— Ага… Ну раз уж так обстоят твои дела, выражаю тебе глубокое соболезнование. Не спи.
В автобусе сделалось тихо.
Впереди, там, во тьме, билась река. Пахло влажным — кажется, тиной. Ни шороха, ни голоса человека. Безветрие. Безлюдье. Пустая, огромная дорога. Река не отсвечивала во тьме. Не было звезд и не было луны. Ночная вода была похожа на воду под крышкой люка: глухая, черная, без блеска.
Лера вышла из автобуса и тихонько позвала: «Вадим!»
Никто ей не ответил.
Она крикнула погромче: «Ва-дим!»
Она сказала: «Вадим» — вправо и влево, в сторону Енисея, и в сторону Москвы, на юг, север, запад и восток…
Вызвездило.
Она металась под звездами вокруг автобуса, от которого не смела отойти. Она кричала:
— Ва-а-адим, Ва-а-дим!..
— Как вам не стыдно, гражданка? Чего вы орете?! Ребенка разбудите! — сказали ей из окошка автобуса.
— Да ведь он мне оставил чемодан!.. Куда же я с чужим чемоданом? — скороговоркой ответила Лера.
— Иди, иди, я посмотрю за чемоданом, — ответил из окна голос Шарапенко. — Дыши. Валяй.
…Вот деревья у края дороги. Тьма. Тишь. Не колышутся на ветру ветки. Ветра нет.
Среди других — мелких — деревьев высится один-единственный кедр. По растрескавшейся коре, похожей на длинную морщинистую шею, течет смола.
Лера подошла к кедру, уперлась лбом в его ствол, зажмурилась. Слово — серебро, молчание — золото. И все-таки Лера сказала не то себе, не то кедру одно короткое слово.
Она бросила свое серебряное слово в тишину, в пахучую путаницу прозрачных кедровых веток. И слово покатилось куда-то в ночь, слившись с шумом Енисея, с памятью Леры о первых горах Саянского хребта, с дальними кызылскими огнями и чувством огромной протяженности мира.
— Па-а-аромщик!.. Па-а-аромщик! Оглох, что ли?! — закричали из окошка автобуса.
— Лера!.. Ты где?! Давай возвращайся, — позвала Шарапенко.
Оправив волосы, Лера побежала к брошенным чемоданам.
И вдруг она услышала его смех, его пронзительный в ночной тишине голос.