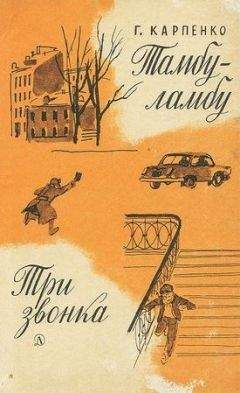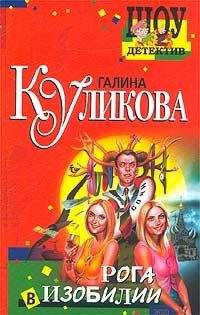Анна Гарф - Кожаные башмаки
Ни словечка Миргасим не сказал ей, — за что же так рассердился брат Мустафа? Письма свои теперь сам приносил учительнице… А потом война началась, и писем вовсе не стало…
Сидит апа, чай пьёт, но смотрит не на бабушку, а на чёрный футляр, в котором отдыхает гармонь Мустафы. Вспоминает, должно быть, Фатыма-апа, как Мустафа на гармошке играл, какие песни пел.
Не позабыть и Миргасиму, как однажды на берегу реки плакала эта гармонь. Фатыма-апа в тот день на камне сидела, смотрела, как плывут облака. Брат Мустафа на те же облака глядел и пел, перебирая лады гармони:
В горницу залетела бабочка.
Как вспомню о милой,
Кладу в сторону рубанок,
Отдыхаю сложа руки.
Пальцы твои — камыши.
Брови — чёрное перо,
С ресниц сыплются искры,
Глаза — как звезда Чулпан[4].
Не брани меня:
«Вот глупый. Много наговорил».
Я кричал так громко.
Чтобы не было так больно…
Подумать только! Из-за этой учительницы брату Мустафе так больно. Миргасим лёг на живот и, не поднимая головы, пополз на помощь своему брату. А та, злая волшебница, разве могла знать, что идёт на неё сам Камыр-батыр? Зубы у него железные, когти медные. Движется он неслышно, сам невидим, но сильней его нет никого. «Потерпи немного, любимый брат, я иду к тебе!»
Брат Мустафа, пропев песню, замолчал, только пальцы его продолжали разговор с гармоникой. Фатыма-апа тоже молчала. Она перекинула со спины на грудь левую косу и то расплетала, то заплетала её.
Мустафа поглядел на учительницу, и опять полилась песня:
Занозил я сердце, —
И пою не для славы.
Но оттого, что
Сердце по тебе горит.
Сердце она ему занозила, этого ещё не хватало! Миргасим поднялся во весь свой богатырский рост и богатырским голосом загремел так тихо, что сам себя не услышал:
— Фатыма-апа, почему вы другую косу не заплетаете?
Она, будто пчела её ужалила, отпрянула, схватилась руками за щёки — они у неё как огонь покраснели. А брат Мустафа бросился на Миргасима словно тигр да вдруг как захохочет:
— Почему живот и щёки такие зелёные?
— Потому что я к тебе по траве змеёй полз…
Фатыма-апа налила чаю в блюдце, глянула на Миргасима. И вдруг улыбнулась. Может, и она сейчас, пока пьёт чай, о тех облаках, о реке вспоминает?
Чаю попила, картошки поела, бабушку поблагодарила. Встала, взяла свою сумку, перекинула ремень через плечо.
— Миргасим, скажи Асие, завтра принесу ей говорящую посылку, — сказала, засмеялась, и нет её. Ушла.
Глава пятнадцатая. Говорящая посылка и звезда Чулпан
Как ни долга ночь, она кончается, в белом утреннем небе заря занимается.
«Му-о-о!» — грозно затрубил бык.
«М-му-у…» — застонали коровы.
Будто нескончаемая пёстрая река, потекло стадо по деревенской улице. Позади коров — козы, за козами — овцы.
Но можно ли сравнить это пёстрое бестолковое стадо с гусями? Они идут строем, шагают, будто солдаты на параде.
У работничков наших, у помощников, в руках палки, хворостины. Миргасим заткнул за пояс ремённый кнут.
Звонко щёлкнул бич пастуха, Миргасим тут же взмахнул кнутом, хотел было сказать «я его перещёлкаю», да гуси как завопят:
«Га-га-га!»
А вожак вытянул шею, захлопал крыльями и зашипел до того сердито, что Миргасим поспешил кнут свой обратно за пояс заткнуть.
До сих пор гуси ходили где вздумается. То клюют зерно на току, то долбят овощи на огороде, то пасутся в овсах. Вот и поручили Миргасиму и его друзьям выгнать гусей на луг и пасти строго, чтобы с пастбища гуси никуда не отлучались, о набегах разбойничьих позабыли.
Идут гуси под присмотром пастушат мимо колючего, только вчера сжатого поля, шагают мимо белой, ещё не тронутой комбайном полосы доспевающей пшеницы.
Весной говорила бабушка Миргасиму: «Выйди в поле, послушай, какой под снегом звон. Это своими острыми сабельками пробиваются из-под снега к свету озимые зеленя». Теперь, когда Миргасим смотрит на нескошенную полосу, ему чудится густой, низкий гул колосьев, склонённых под тяжестью зерна.
А луг ещё совсем зелёный, только цветы на нём не жёлтые, не белые, как весной, а лиловые и трава жёсткая, старая. Как усердно щиплют гуси траву, не хуже лошади!
Миргасим лёг на землю, подперев ладонями подбородок, и смотрит на гусей с таким удивлением, будто до этого никогда их и не видывал. Как похожи на змей их длинные шеи, какие широкие у них крылья!..
Вдруг Миргасим вспомнил. Говорящая посылка!
И пастушата побежали навстречу Фатыме-апа.
Вчера, когда Миргасим про посылку сказал, Асия не поверила, а сегодня глядите: стоит на дороге. Рядом с нею Шакире и Наиля.
Еще не показалась из-за поворота красная косынка Фатымы-апа, а голос посылки был уже слышен. Радостный, отрывистый и в то же время какой-то детский.
Вот и сама апа. На ремне, как всегда, почтовая сумка, а в руке на этот раз корзинка. Из неё выглядывает весёлая разрисованная мордочка с двумя торчащими ушками. Оба уха стоят как чёрные стрелы.
— Починили щенка в больнице, починили! — обрадовался Миргасим. — И уши подровняли!
Ребята подхватили корзинку, опустили на землю. Щенок лаял, выставив передние лапы, но ещё не смея выскочить на траву. Он лаял не заливисто, как взрослые собаки, а мелко, тонко, будто ещё только учился говорить.
— Он тебя, Миргасим, боится, — сказала Асия. — Ты для чего тут бичом своим щёлкаешь?
Миргасим отбросил бич:
— Выходи, малыш не бойся, здесь все свои.
И щенок выбрался из кошёлки, отряхнулся, потянулся, завилял хвостом.
— Какой он чистый, пушистый!
— Настоящий медвежонок!
— Смотрите, какие у него глаза весёлые. Они же у него смеются и сам он улыбается!
— Где он будет жить? — спросил Миргасим и схватился за шляпу.
«Нет, теперь щенка в шляпу не упрячешь, раздобрел на больничных хлебах».
— Щенок, иди, я покажу тебе твоё жилище, — позвала Асия.
У самой ограды колхозного сада стоял дом — высокий, Миргасиму по плечи. Тесовая крыша, круглое окошко и дверь, настоящая, на железных петлях, и засов есть, всё как положено.
— Сначала куклы мои жили здесь, — сказала Асия, — потом они в сундук эвакуировались.
Перед домом — корытце и ведро. Асия налила в него свежей воды, в корытце положила кашу.
Но щенок на угощение и не посмотрел, подбежал к ближайшему деревцу, поднял заднюю лапу и полил его.
Ребята засмеялись, а щенок обернулся, щёки сморщил, хвост поджал, глаза стали злыми. Он оскалился и зарычал басом.
— Вот это пёс! — сказал Миргасим. — В обиду себя не даст.
— Злой, как его хозяйка, — прибавил Фаим.
Асия стукнула задиру кулаком по спине:
— Хватит на сегодня или ещё добавить?
— Чем драться, лучше бы имя своей собаке придумала.
И все наперебой стали предлагать имена:
— Репей!
— Отважный!
— Шайтан!
— Милый ты мой! — погладила щенка Асия. — Глаза твои на утренние звёзды похожи.
— Назовём щенка Юлдуз — звезда, — подхватила Шакире.
«Глаза твои — как звезда Чулпан», — вспомнил Миргасим и вдруг опечалился. Взглянул на Фатыму-апа. Она стояла, подняв лицо к небу, смотрела на лёгкое, словно перо, белое облако, которое тихо таяло в синеве. А руки Фатымы-апа расплетали и снова заплетали всё ту же непослушную левую косу.
— Давайте назовём собаку Чулпан! — сказал Миргасим, не сводя взора с тёмной, разделённой на три струйки пряди искрящихся на солнце волос.
— Правильно, хорошо: Чулпан, Чулпан! — подхватили все.
И только Фатыма-апа молчала.
— Звезда Чулпан, — уточнил Миргасим и снова посмотрел на Фатыму-апа.
Она покраснела, отвернулась.
Ах, как хотел бы Миргасим сказать ей:
«Когда брат мой пел вам: «Глаза твои — как звезда Чулпан», почему вы не ответили ему, почему не спели: «Хоть я не слепа и вижу других во всей красе, сердце моё не лежит ни к кому, кроме тебя». Все наши девушки так поют, если парень по душе, а вы брату моему ни одной песни никогда не спели. Почему?»
Он смотрел на приунывшую, поникшую Фатыму-апа, и вспомнилось ему то утро, когда Мустафа прощался с ней.
Небо ещё только чуть-чуть побелело. Мустафа и Фатыма-апа вышли в степь. Трава, как серебром, была подёрнута росой, и шаги их оставляли тёмные следы на росе. Миргасим шёл позади. Они не замечали его. Между росистой травой и белым небом легла тонкой сверкающей лентой узкая полоса зари.
«Дарю тебе эту росу, — сказал Мустафа Фатыме-апа, — дарю тебе это небо…»
А небо уже пылало, охваченное огнём широко разлившейся зари. И береговые ласточки повылетали из своих тёмных гнёзд-пещерок и закричали пронзительно, будто и в самом деле случился пожар. Вода в реке очищалась от пелены тумана, стрижи стлались над водой, по своей всегдашней привычке, так низко, что Миргасиму казалось, будто скользят они по воде на своём отражении. Ах, так бы и самому хотелось расскользиться, поплыть, да нельзя — брат увидит, рассердится.