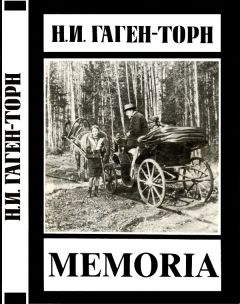Николай Жданов - Новое море
Стоящие вокруг рабочие заулыбались. Пташка украдкой взглянул на своего друга. Тот ковырял землю ногой, делая вид, что нашел что-то очень занимательное; лицо у него сделалось красным и напряженным.
— В чем тут дело? — продолжал между тем главный инженер. — В том, что некоторые ребята считают, что работать на теперешних машинах — ну нет ничего легче! Только кнопку нажмешь — машина сама работает! А ты сиди да загорай. Ни знаний не нужно, ни опыта! — Он лукаво усмехнулся и посмотрел на притихших мальчиков. — Вы-то, я знаю, так не думаете, — убежденно сказал он. — Да вот, выходит, есть на свете и такие еще простаки!
Сева, побагровевший от смущения, невольно приподнял голову.
— Бежим! — хрипло проговорил он и вдруг, дернув Пташку за руку, припустился что было духу в степь.
— Ого, не понравилось! — весело шумели в толпе.
Пташка беспомощно оглянулся на главного инженера и тоже бросился бежать вслед за своим приятелем.
ЧТО С ТОБОЙ, ПТАШКА?
Пташка и Сева, еще полные пережитых волнений, возбужденно шагали вдоль насыпи к энергопоезду.
В котловане уже полным ходом шли строительные работы. Только наверху группа рабочих с лопатами отводила в канаву успевшую прорваться воду.
Настя все еще не закончила сварку магистральной трубы. Фатима терпеливо ждала ее у вездехода.
— Вы что опять такие мокрые, мазаные? — поразилась она.
— Так уж, — хмуро сказал Сева и забился на сиденье в самый угол.
Красное, без лучей, солнце скрылось на самом краю степи за вагонами. Стало быстро темнеть.
Наконец Настя вернулась. Она была оживлена и довольна. Ее провожал от паровоза тот самый мужчина, что с таким, недоверием отнесся к ней при первой встрече.
— Спасибо. Вот выручили! — сказал он на прощанье, протягивая Насте руку.
На паромной переправе прежнего паромщика уже не было: дежурил другой. Паром починили. В отсветах вечерних фонарей вода выглядела черной, как застывший вар, и такой плотной, что по ней, казалось, можно было бы идти не проваливаясь.
На реке стало прохладно. Сева тер ладонями свои голые коленки и ежился. Пташка почувствовал озноб. Он придвинулся поближе к Насте и припал головой к ее плечу. С ней ему всегда было хорошо: очень спокойно и уютно.
— Соскучился? — тихо спросила Настя и стала гладить стриженый его затылок.
От переправы ехали с зажженными фарами. Качающиеся зеленые лучи выхватывали из темноты то кусок дороги с жесткой травой на обочине, то встречную машину.
Все молчали, должно быть утомленные пережитым. Одна только Фатима оживленно рассказывала Насте про какую-то свою подругу из драмкружка.
— Ой, с Клавкой умора! — говорила она. — Хочет донну Анну играть. Павел Иванович говорит: «Донна Анна должна быть стройной, изящной, красивой. А у вас, говорит, грации нет…» Знаешь, как обиделась? К комсоргу пошла. Разгорячилась, глаза прямо так и горят. Ну, Филимонов, комсорг наш, ей и говорит: «Он, наверно, не видел, как ты работаешь! В тебе, говорит, грации на пятерых хватит. Поди, говорит, к Павлу Ивановичу и скажи, что комсомольская организация считает тебя красивой». — Фатима звонко засмеялась: — Надо же как!
Настя засмеялась тоже.
С дороги был виден большой щит со светящейся надписью.
«Мир будет сохранен и упрочен, если народы…» — читал Пташка, но машина пронеслась мимо, и он не успел дочитать все. Оглядываясь, он видел только слова, написанные особенно крупными буквами: «Мир будет…» И долго еще, пока машина шла по шоссе, горели вдали, над ночной степью, эти светящиеся слова: «Мир будет…»
Он, должно быть, уснул, потому что очнулся, когда Настя уже вела его от машины к крыльцу.
Дома им с Севой все-таки пришлось умыться. Есть Пташка совсем не хотел — он чувствовал горячащую дрожь в спине и желание поскорее лечь. Но Севина мама, Глафира Алексеевна, стала всех усаживать за стол, говоря, что у нее давно уже готов ужин и никого нет и она совсем заждалась.
Вовы не было — он, вероятно, уже спал.
Только уселись, как пришел Севин папа — багермейстер Стафеев.
— Говорят, такого ливня сто лет не было, — сказал он, вешая на гвоздь свою фуражку.
— А ты все грызешь бережок, и хоть бы тебе что! — шутя заметила жена.
— Как же иначе! — довольно усмехнулся Стафеев. — Обязательство надо же выполнять. А то что получается: стихийное бедствие:
И ничуть не виноваты,
И деревня не взята!
— Сарафанов не приходил? — спросил он.
— Приходил, да опять ушел: к нему отец приехал с Урала, — сказала Глафира Алексеевна.
«Сарафанов… Кто же это такой? — думал Пташка, борясь с охватившей его дремой. — Ах, да ведь это дедушка еще там в степи говорил, что едет к своему сыну, Сарафанову! Как же так?»
— Чудной такой! — продолжала между тем Севина мама. — Утром тут был; чаем его угощала по-соседски. Говорит: сыну остепениться пора, а это, дескать, дело серьезное! — Она лукаво посмотрела на Настю. — Тобой все интересовался.
— Полно вам, Глафира Алексеевна, — сказала Настя краснея. — Пойдем, я тебя спать уложу — спишь за столом, — обратилась она к Пташке.
Она повела Пташку в свою комнату, помогла ему раздеться и уложила на диванчик, затем укрыла простыней, одеялом и потрогала рукой лоб.
— Что это с тобой такое? — тревожно спросила она.
Пташка не ответил. Едва коснувшись головой подушки, он закрыл глаза. И тотчас ему показалось, что гудящий теплый поток подхватил его и, качая, несет куда-то.
БОЛЕЗНЬ
Ночь была длинная. Было очень жарко, и Пташке казалось, что надо было спешить, потому что в такую жару там, в степи, на могиле, могут завянуть цветы.
Но кто-то пришел и мягко, но настойчиво говорил ему:
— Привстань, маленький, повернись!
Пташка привставал и повертывался, щурясь от яркого электрического света.
«Я, наверно, болен, — догадался он, — поэтому меня и называют маленьким».
Он открыл глаза. Перед ним стояла женщина в белом халате, за ней у стены Пташка увидел встревоженного дядю Федю и бледную, утомленную Настю, внимательно смотревших на него.
— Покажи язык. Ну-с, — говорила женщина.
Потом запахло скипидаром, кто-то, должно быть Настя, долго ловкими, быстрыми руками растирал ему спину и грудь.
Пташка снова уснул.
Ему казалось, что он в синем комбинезоне (как у Полыхаева) сидит в кожаном кресле, близ широкого окна, в светлой кабине экскаватора. Кабина плывет над степью, а он легко переводит рукой рычаги, и огромный ковш то низвергается в забой, то плавно летит по воздуху к вершине холма.
«Приготовиться к шаганию! Выброс!» — командовал Пташка.
… Он проснулся опять. Ему было как-то особенно хорошо и спокойно. Сначала он не понял, почему это так. Но потом увидел, что рядом с ним, у самого его диванчика, сидит Настя.
Он сразу счастливо улыбнулся, и Настя улыбнулась тоже.
Ее грустные ласковые глаза придвинулись к нему совсем близко.
— Ну что, Пташечка моя? Болит что-нибудь?
— Ничего не болит, — сказал Пташка. И вдруг он вспомнил: — Цветы мы полили там, в степи, они теперь не завянут. Тебе дядя Федя не говорил еще?
— Говорил, он мне про все говорил, — сказала Настя и порывисто обняла Пташку.
Он уснул опять. А когда проснулся, на улице уже давно был день. Дверь на террасу была открыта, и видны были белые пухлые облака, плывущие по голубому небу. На ступеньках, спиной к нему, сидели Настя и дядя Федя и, глядя в степь, о чем-то разговаривали.
— Ты заметил, что когда думаешь о будущем, — тихо говорила Настя, — то обязательно представляешь себе светлый, солнечный день, вот такое же небо, сверкающую реку, или что-нибудь в этом роде. Но ведь и при коммунизме будут серые, холодные дни; еще будут, вероятно, вот такие неуютные пустыри и останутся еще болезни и несчастья. Но обо всем этом почему-то забываешь, правда?
— Потому и забываешь, — мягко говорил дядя Федя, — что люди тогда станут жить иначе, меньше будет болезней и несчастий. И неуютных пустырей станет с каждым годом меньше. Вот на этом пустыре уже нынче осенью будет парк, а в лощине — водоем. Не сразу, но лет через пять здесь наверняка будет замечательно. И, главное, все это создается нашими руками!
Дядя Федя встал и несколько раз прошелся по террасе.
— Закрой дверь, а то его разбудишь, — сказала Настя. Дверь закрылась, и Пташка больше не слышал их разговоров.
Он задремал, сквозь дрему к нему доносилась с террасы песня, которую пел дядя Федя. Голос у него был густой, полный такого чувства, что Пташка невольно прислушался.
Ти не лякайся, що ниженьки 6 oci
Змочишь в холодну росу,
Я тебе, в i рная, аж до хатиноньки
Сам на руках в i днесу…
Пташка понимал, что эта песня предназначалась не ему. Но и ему, Пташке, стало хорошо от нее, как от самой хорошей думы.