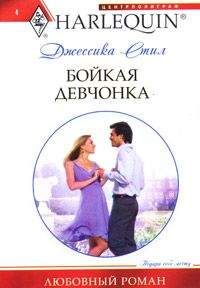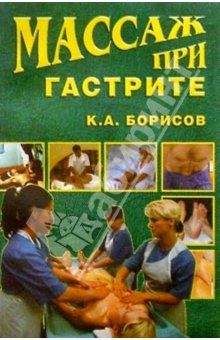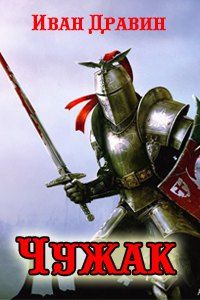Алла Драбкина - Волшебные яблоки
Вот тут уж я опешила.
— Да почему же? Да как же так можно? Ведь он…
— Вот и можно! Я никогда не видела таких!
Теперь заревела я:
— Но он же злой! Он же всех презирает! И никаким артистом он не станет. Люби лучше Сашку Терещенко! Сашка же человек!
— Да я и люблю Сашку, но только не так. Сашка похож на моего братишку. Он самый хороший, но только все не так…
Все остальные уроки Никитин смотрел на Журавлину, а я думала только об одном: чтоб он не увидел, что она плакала. Много чести. «Девочка»! Он, видите ли, не удосужился даже запомнить ее фамилии!
А весна стояла совсем невероятная. Наш класс впал в летаргический сон: засыпали прямо на уроках — такой чистый был воздух, так оглушительно и снотворно чирикали воробьи.
Между нами с Журавлиной что-то произошло. Не могу сказать, что мы особенно откровенничали (я-то откровенничала, но она не очень), но что-то в наших отношениях изменилось. Мы как-то странно улыбались друг другу, почти смущенно и в то же время ласково. Заниматься вместе не было никакой необходимости, потому что я уже совсем выправилась, но мы занимались вместе. Даже мама привыкла к Журавлине и вечно оставляла ее у нас обедать, хотя Журавлина и стеснялась.
Про Никитина мы больше не говорили, а гулять ходили на школьный двор, чтоб не встречаться с ним. Но потом он тоже стал гулять на школьном дворе, все вертелся вокруг нас, выделывал всякие кренделя.
Скоро Кокорева с Бучкиной пронюхали про то, где Никитин бывает. Потрясающие все-таки способности у людей: их презирают, на них не смотрят, а они все равно лезут к человеку, да еще бегают вслед за велосипедом и канючат:
— Никитин! Дай покататься!
Никитин их упорно не видит, но теперь меня это не раздражает, потому что Журавлину, например, он видит. Да и на меня смотрит по-человечески. Но мы у него велосипеда не просим. Мы на него не смотрим. Почему не смотрит Журавлина, я знаю, а я не смотрю на него за компанию. А эти бегают следом, как собачонки, просто противно.
Он однажды не выдержал, подошел к Журавлине и сказал:
— Катя! Хочешь покататься?
— Нет! — Она гордо вскинула голову и побежала прочь со школьного двора.
Я бросилась за ней следом, хотя и видела, что она может меня прогнать, — такое у нее было лицо. Но она меня не прогнала. Мы бежали по улице в неизвестном направлении, будто состязались в беге.
Потом был какой-то садик, и Журавлина опять плакала, уткнувшись мне в плечо.
— Послушай, ну почему ты так? Ну он же сам… Ну ты же ему нравишься!
— Я… а-а-а не умею… кататься на велосипеде! Я же не умею!!!
Вот такая она, моя Журавлина!
6. Прощание
Журавлина уезжала. Навсегда. У них там в районном центре открылась школа-интернат, а Журавлина очень скучала по своим братьям и сестрам. Провожали мы ее всем классом. Все окружили ее, оттерли тетку, только я почему-то не могла подойти: у нас с ней вообще так — вдруг какое-то смущение накатывает. Может, это потому, что я уже давно любила Журавлину, но не очень хотела это признавать, потому что это во мне с детства какая-то дурь сидит — делать все наоборот, себе вопреки. И еще Никитин в сторонке стоял, он не уехал, хоть учебный год и кончился, — ему надо было досняться. И стояли мы с ним в сторонке, как чужие, хотя я знала, что ему, так же как и мне, больше всех грустно.
И вот когда уже проводница закричала, чтоб все садились в вагон, Журавлина вдруг кинулась ко мне.
— Я тебя никогда не забуду, — сказала она. — Я тебя никогда не забуду. Ты хорошая, ты веселая. Я тебя никогда не забуду!
Никитин стоял рядом со мной и смотрел на Журавлину глупыми собачьими глазами.
— И тебя, — сказала ему Журавлина. — И не обижайся за велосипед. Я просто не умею кататься.
Поезд ушел. И я думала, что хорошо бы умчаться за этим поездом, что нельзя стоять и смотреть, как уезжает твой лучший друг, что это просто бессовестно с чьей-то стороны — оставить меня без Журавлины. Как же так, не слышать больше ее голоса, который до сих пор вызывает удивление, не видеть ее лица, невозможно синеглазого…
Что было потом? Потом, если что-то случалось, кто-нибудь обязательно говорил:
— А Журавлина сделала бы так-то…
И все задумывались, и поступали так, как поступила бы она. И безобидный Юрка Бабаскин подрался с дылдой-второгодником, который бросил кошку в мусоропровод, и побил второгодника. Новожилова не выбрали председателем совета отряда. А я… Говорят, я стала умнее. Но это они ошибаются. Я никогда не была дурой. Кокорева говорит, что я просто хвастунья и самомнительная. Но это не так. Просто себя надо тоже уважать, без этого не проживешь. Впрочем, уважать надо всех. Даже смешных девчонок, которые вместо «французу» говорят «хранцузу», а летом «дерьгают лен и возят назем». Говорить правильно можно научиться, а вот быть человеком гораздо труднее.
Повесть
Попробуй-ка, соври! (повесть)
1
— Ну и ехидина! — сказал Мишка. — Уж такая ехидина, даже не рассказать…
Это он говорил про незнакомую девочку, которая вдруг появилась у них в доме. Мишка увидел ее первым и уже успел все про нее понять.
Дело было вечером. Вышел он в булочную. Но Мишка не привык сразу бежать в булочную, если его туда послали. Булочная никуда не денется.
Прямо напротив дома — сквер. Было бы глупо не зайти и не поинтересоваться, кого еще не успели загнать домой. К несчастью, домой загнали всех. Только какая-то длинноногая особа маячила на деревянной детской горке. Чужая. Мишка очень любил чужих, потому что с ними можно подраться без всякой причины. Подошел — и по башке.
— Эй, ты, коломенская верста! — крикнул Мишка, подойдя к горке.
Девочка улыбнулась. Уже по одной этой улыбке Мишка понял, что она ехидина. Но нельзя же бить по башке, если человек тебе улыбается.
— Ну, чего уставилась? — спросил Мишка в надежде получить ответ.
— Что вы сказали?
— Чего, говорю, рот разинула?
— А?
— Ворона кума. Галка крестница — тебе ровесница.
Девочка, все еще улыбаясь, пожала плечами, как будто опять не расслышала. Ну не ехидина?
— Глухая тетеря, — сказал Мишка.
Она улыбнулась так, как будто он ее назвал не тетерей, а ласточкой.
То, что незнакомому человеку трудно понять его речь, до Мишки почему-то не дошло. Да и вообще, разве будешь думать о таких пустяках, когда кулаки уже перестали помещаться в карманах.
— Ты разбегись посильней, а я тебя внизу поймаю, — сказал Мишка, решив тоже быть ехидным.
— Спасибо, — сказала девочка.
Наконец-то поняла. Мишка встал у подножия горки, но совсем не с тем намерением, чтоб ловить эту ехидину. Она спустилась с горки, отошла, разбежалась, взлетела стремительно, поехала вниз и… наткнулась на подножку.
Мишка захохотал, предвкушая, как она сейчас начнет ныть или ругаться. Но она поднялась, отряхнула пальто и тоже рассмеялась.
Ну что ж, тем лучше. Если она такая непонятливая, то можно попробовать еще раз…
— Давай снова… — сказал Мишка.
Девочка разбежалась второй раз. И опять наткнулась на подножку.
— Может, еще? — спросил Мишка.
— Еще!
Она улыбалась. Это Мишке не понравилось. Тревожно было как-то от ее улыбки, не по себе.
Она покатила с горки. И еще. Сил на разбег у нее уже не было, она скатывалась без разбега и без всякого удивления падала.
Мишка тоже устал. Нога, которую он ей подставлял, болела, а подставлять другую было неловко. Он бы уже с удовольствием отошел от горки. Но, с другой стороны, не вывести девчонку из себя, не раздразнить как следует было обидно. Если раньше ему хотелось подраться от скуки, то теперь он уже по-настоящему разошелся.
Но она улыбалась! Вся в снегу, мокрая, вспотевшая, а улыбалась.
…Мишка все-таки сменил ногу. Она снова покатилась с горы, покатилась с разбегу (второе дыхание, что ли?), покатилась яростно, быстро. Зря Мишка сменил ногу. В общем, на этот раз он упал сам, она его сбила.
— Ах, ты толкаться?! — заорал он. — Ах, ты еще толкаться?! Ну, сейчас я тебе покажу…
— Кровь из носу, — сказала девочка, — у тебя кровь из носу…
Рассвирепев, Мишка бросился на нее. Она вроде бы и не собиралась убегать, стояла, как статуя, только в последнюю минуту — верть — и Мишка хлопнулся у ее ног.
Она спокойно отошла на приличное расстояние, снова застыла. Он вскочил, кинулся на нее. Верть! А Мишка — хлоп!
— Замотаю, — спокойно сказала она.
Она по-прежнему улыбалась, но теперь Мишка понял, что ее улыбка была совсем не дурацкая, не бессмысленная, а ехидная.