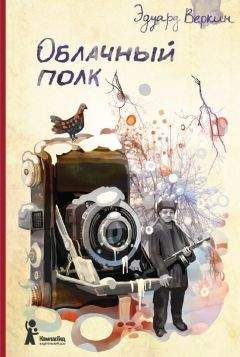Эдуард Веркин - Облачный полк
Хорошо, что завтра к самолету идем. Долго в лагере тяжело находиться, страшно становится, хочется бежать. Или дурь всякая в голову лезет. Самолет как раз подвернулся. Конечно, грязь в лесу, сырость, да ладно, пусть. Все лучше, чем сиднем сидеть.
Показался Виктор, Саныч за ним.
– Извините, я, видимо, что-то перепутал, – оправдывался Саныч с хитрыми глазами. – Я прекрасно помню, раньше здесь жил настоящий партизан. А сейчас, кажется, сюда вселилась молодая партизанка…
Ковалец возник рядом.
– Ковалец, ты не знаешь, что за девушка тут живет? – поинтересовался Саныч. – Я, вроде, всех наших баб знаю…
Ковалец кинулся в землянку, задел Саныча плечом.
– Партизан без шутки не живет, – улыбнулся Саныч. – А этот боец просто очень нервный, измучен недугами, у него мозоли всякие, геморрой опять же. Думаем его в госпиталь определять. Ладно, Виктор, пойдемте дальше наше хозяйство смотреть. Правда, смотреть особо нечего, у нас отряд небольшой, ни типографии, ни радио. Но зато сплоченный. Вон видите – это Спасокукоцкий…
Лагерь у нас на самом деле не очень большой. Меньше футбольного поля, тесно, зато свой родник. И клюква вокруг по болотам, после заморозков сладкая, можно корзину съесть.
– Там у нас Геринг, – махнул Саныч в сторону зарослей. – Ненастоящий, конечно, лошадь фашистская. То есть теперь она уже наша, а раньше немецкая была. Злая, собака, кусалась, лягалась. Сейчас ничего уже, мы на ней дрова возим. Вот и все, собственно, больше и показать нечего.
– Нечего?
– Не-а. А вы у Глебова в бой попроситесь!
– Как?
– В рейд! По тылам! Вам понравится. Только я не знаю когда. Вы у Глебова спросите, он, может, и скажет.
Виктор почесал лоб.
– И напишете об этом, – продолжал рассуждать Саныч. – Вот очерк получится – лучше не придумаешь!
– Я не знаю…
– Так вы сходите к Глебову, спросите. Все равно сейчас никакой самолет не взлетит – в такую-то грязищу.
– Может, на самом деле… – Виктор растерянно огляделся. – Это было бы интересно… Я, пожалуй, схожу, узнаю. Спасибо!
И корреспондент заторопился к штабу.
Из-за ближайшей сосны нарисовался Щурый, остановился на всякий случай в отдалении. Подслушивал.
– Ну, что тебе? – спросил Саныч.
Щурый подбежал, сунул Санычу треугольник.
– Это что?
– Письмо.
– А сам что не отдашь?
– Да так, не знаю… Отдай ты, а? У тебя точно дойдет.
Саныч взял письмо.
– Ладно, – сказал он. – Слушай, у вас с Алевтиной ведь есть сковородка маленькая?
– Ну, есть…
– А у нас сахар. За героизм выдали. Так что мы к вам сегодня вечером в гости, так Алевтине и скажи.
– Хорошо, скажу. Только вечером уже приходите, Аля сегодня на кухне помогает.
Шурый исчез.
– Пойдем еще раз пообедаем, а? – предложил Саныч. – Лыков суп доварил, наверное.
– Пойдем.
Насчет пожрать еще раз я всегда не против.
На скамейке у поварни уже сидели двое – Костик и Хмурняк. Костику, наверное, за сорок, уже мужик, а все Костик, не знаю уж за что его так; а Хмурняк фиолетовый весь. Он снаряд разбирал, порох пыхнул – и ему прямо в харю, и ожгло, и в кожу въелось. Так что лицо у него темно-темно-синее, отчего он сам всегда кажется очень хмурым и злым. Костик и Хмурняк разговаривали спокойно, не торопясь, про масло (кажется, как правильно сбивать) и ели по-старинному – с хлебом под ложкой, удовольствие получали.
Лыков действительно суп уже доварил, поглядел на нас, молча забрал котелки и выдал уже полными. Опять умудрился с горой, похлебка – а с горой. Нежадный Лыков, хоть и керосинщик.
Похлебка оказалась, как всегда, невкусной. Суповые принадлежности уже совсем разварились и не угадывались в ложке: понять, где грибы, где крупа, а где лук, не получалось. У Лыкова определенно был талант, наверное, на чемпионате худших поваров он бы занял первое место. Кроме того, в котелке болтались комары, сухие еловые иголки и прочий мусор. Можно выловить ложкой или хотя бы отогнать в сторону, но у нас никто так не делал. Я раньше ловил, а теперь плюнул, разницы все равно никакой.
Похлебка оказалась, как всегда, невкусной, но ели мы, как всегда, с удовольствием. Пока не показался… ага, Ковалец – он как тень просто, никуда не спрятаться. Саныч грустно потер глаз.
Ковалец жулькал в зубах папиросу, не курил, просто красовался – папироса была настоящая и очень Ковальцу шла, с папиросой он выглядел гораздо мужественнее. Для фотографии, наверное, тренируется, в «Красной Звезде» хочет напечататься. А мне так кажется, ему уже можно и не тренироваться, пойдет вполне себе, а папиросу ему, видимо, Виктор дал.
– Значит так, обормоты. – Ковалец перебросил языком папиросу справа налево. – Вы доигрались. Глебов велел мне за вас взяться.
– Ну, возьмись, возьмись.
Саныч ухмыльнулся, подул на ложку.
– Однако… – Ковалец достал зажигалку, сделанную из патрона, чиркнул, закурил смачно, как в кино совсем. – Однако слушайте. Глебов очень недоволен тем, что вы тут устроили. Не отряд, а цирк какой-то! С Большой Земли прилетают люди по серьезным делам, а у нас в сортире черт-те что! Что про нас в газете напишут?! Отряд Глебова вместо того, чтобы рвать мосты, украшает клозеты немецкими погонами!
Саныч потупился.
– Слушайте приказ командира, герои. Привести партизанский туалет в надлежащее состояние. Дается час. Через час проверю лично!
Ковалец стрельнул сердитым глазом и удалился.
– Во урод, – вздохнул Саныч с восхищеньем. – И ногу не сломит, и коза не забодёт…
Глава 4
Это случилось в пятый день, значит, двадцать седьмого.
Я думал, это наши.
Тогда я еще не научился определять самолеты ни по виду, ни по звуку, ни по высоте полета. Они и появились-то с нашей стороны, с востока, стайка черных мух, почти незаметных на фоне восходящего солнца. Я на них и внимания не обратил – в последнее время в небе было оживленно, мы привыкли лишний раз голову не задирать.
Тем утром я ловил свет. Солнце поднималось: оно уже высоко всползло над крышами, еще несколько минут – и трубы мехзавода лягут в кадр, солнце повиснет между ними, как лампа.
Сирены завыли слишком поздно. Поздно – даже я видел черные кресты на крыльях. Заработали крупнокалиберные пулеметы, воздух вспороли трассеры, заухало возле моста – там, где стояла зенитная батарея. Небо зачернело разрывами, но стая держала строй, с равномерным пчелиным гудением она наползла на город и рассыпалась уже за рекой. От нее оторвались небольшие самолеты с неправильными поломанными крыльями и торчащими из-под брюха шасси. Они походили на стрижей, быстро юркнувших к воде, чтобы напиться; только им не нужна была вода, они падали к мосту, и через секунду земля дрогнула. Я упал на крышу и съежился, и загрохотало уже без перерыва, и ревело, ревело, как циркулярная пила, напоровшаяся на медный штырь.
Я открыл глаза. Город спал. Люди не успели проснуться, не понимали, что происходит, никто не бежал, никто не спасался, несколько едва проснувшихся горожан растерянно смотрели вверх.
Батарея у моста замолчала, разрывы в небе прекратились, стая бомбардировщиков медленно разворачивалась, заруливала на второй заход. Еще стрекотали пулеметы, они еще пытались закрыть город, но самолеты не замечали их, медленно распространялись над нами; казалось, что они висят, что их лишь чуть сдувает вбок ветром. К земле снова полетели бомбы. И тут грохнуло уже по-хорошему, крыша опять толкнула меня, я подскочил, свалился, попробовал встать. Железо плясало подо мной, стоять не получалось совсем, я прижимал к себе камеру, изо всех сил стараясь ее не разбить. Было страшно…
А потом я увидел свой самолет. Он заходил со стороны солнца. И бомбу я в этот раз видел уже отчетливо – она была подвешена под самолетным брюхом, поблескивала сталью и улыбалась – я ясно различал нарисованную на ее морде оскаленную пасть. Самолет нырнул вниз, к крышам, на несколько секунд он исчез из поля зрения, затем пронесся над моей головой, уже без бомбы.
Ударила взрывная волна, с меня сорвало рубашку, и тут же пришел звук, настолько громкий, что я почти сразу оглох и чуть-чуть ослеп, на секунду совсем.
Правая заводская труба падала, по пути разваливаясь на кубики, как игрушечная. Вторая труба разрушилась по-другому: надломилась у основания и села, вычихнув дым, в небо выстрелил густой пылевой фонтан, отрезавший солнце; стало темно, но ненадолго: слева в воздух выплеснулся огонь, жадный оранжевый гриб – взорвалась нефтебаза.
Поднялся ветер, он растащил пыль на отдельные вихри, и я увидел, как гибнет город.
В тишине.
В пригородах горели и почему-то взрывались частные дома, подбрасывало крыши и сломанные доски, оплывали башни элеватора, над вокзалом повисла коричневая гарь, из которой выступала банка водокачки, построенной в тысяча девятьсот восьмом; горели шестиэтажки на Набережной, у одной из них отвалилась стена.
Мир, он как бы осыпался по краям, я смотрел, словно через длиннофокусный объектив. То, что было передо мной, выступало ярко и выпукло. То, что оставалось сбоку, рассеивалось в невнятное крошево. К глазам словно приставили бинокль, и после того я смотрел сквозь него почти полгода: жизнь проплывала, будто отделенная толстыми линзами и чуть мутноватыми призмами.