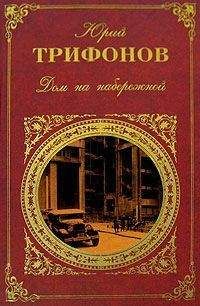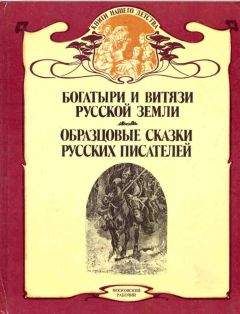Василий Авенариус - Опальные
— А у нас там доски подставлены, упрешься на наши плечи — и перешагнешь.
— Аль попытаться?..
— Погоди, это еще не все. Есть у нас в доме лекарь-немчин, лечить великий мастер: больного отца нашего, можно сказать, из мертвых воскресил. Так он вот тебя живо на ноги поставит.
— Ну, нет, Господь с ним, с этим вашим немчином!
— И то ведь, Юрий, — вмешался Илюша. — Богдан Карлыч наш — добрейшая душа, но возьмется ли он лечить разбойника, не спросясь сперва у батюшки?
— Правда… Только вот что, брат Осип, ты не вернешься ведь потом опять к прежним товарищам в шайку?
— Ой, нет! — уверил тот. — Опостылело мне их бесшабашное житье хуже горькой редьки. Пойду я в батраки, в судорабочие — мне все едино. Работать я сызмальства был лих. Замолю грехи свои…
— Ах, Юрик, вот было бы славно! — воскликнул Илюша, вконец обмороченный чистосердечным, по-видимому, раскаяньем разбойника.
— Поклянись же нам в том именем Бога, — сказал Юрий.
Шмель перекрестился размашистым крестом.
— Не видать мне царствия Небесного!
— Вот это так. А теперь дай-ка сюда твой нож.
— Для чего?
— Тебе он ведь все равно уже не нужен, а найдут его при тебе, так лишняя улика.
Минуту еще разбойник как будто колебался. Но в прямодушных лицах братьев-боярчонков не было и тени лукавства, — и он отдал свое единственное оружие. Юрий швырнул его в речку.
— Ну, Кирюшка, берись-ка с той стороны, а я подопру с этой.
И, опираясь на обоих, раненый заковылял к лодке.
Глава седьмая
ПРО СТЕНЬКУ РАЗИНА
Не мог надивиться Богдан Карлыч, что сталось такое с его младшим учеником. Ну, Юрий — тот от природы уж ветрен и рассеян, но за Илюшей этого доселе не водилось. Сегодня же и он сидел, как на иголках.
— Нет, по утрам, Илюша, ходить тебе на рыбную ловлю я больше не позволю, — объявил учитель.
— Да ведь у нас еще с вечера были жерлицы поставлены, — оправдывался мальчик. — И какая же нам щука попалась!
— Саженная, — добавил Юрий, перемигиваясь с братом.
— Так мы эту диковину сейчас в кунсткамеру отправим, — в тон ему пошутил Богдан Карлыч. — Неужели саженная?
— Саженная и двуногая, — не унимался шалун. — Только ногу одну ей крючком шибко поранило.
— Ведь плавники у рыб то же, не правда ли, что у людей руки и ноги? — поспешил досказать Илюша, бросая на брата укорительный взгляд. — А что, Богдан Карлыч, какую примочку ты прикладывал на рану тому, знаешь, мужику, что намедни отхватил себе топором палец?
Говоря так, мальчик подошел к стенной полке, на которой у учителя-лекаря был расставлен целый ряд бутылей и склянок.
— Не эту ли?
— Эту самую, — отвечал Богдан Карлыч. — А ты, что же, лечить тоже свою раненую щуку собираешься?
Илюша невольно покраснел и принужденно рассмеялся.
— Отчего бы и нет? Ведь ей так же больно, как и человеку.
На этом разговор о диковинной щуке и прекратился.
Простодушный немец все еще ничего не подозревал. Но когда, после обеда, он возвратился опять к себе и по привычке осмотрелся кругом, все ли в горнице в порядке, — то сразу заметил, что той именно бутыли, о которой была давеча речь, нет уже на полке. Тут припомнился ему весь давешний разговор о двуногой щуке, припомнилось и замешательство Илюши.
"Что-то неладно", — сообразил он, взял с гвоздя шляпу и спустился опять вниз, чтобы справиться у дворовых, не видал ли кто боярчонков.
Тем временем Илюша в омшанике обмыл уже беглецу рану чистой водой, обложил ее целительной примочкой и забинтовал снова своим собственным полотенцем. Юрий же принес проголодавшемуся огромный кусок пирога, который выпросил у старухи-ключницы будто бы для себя самого, а Кирюшка — кувшинчик "зелена вина", который, без всякого уже спросу, взял из поставца старика-деда.
Шмель сказал, видно, правду, что давно у него "маковой росинки во рту не было": с жадностью волка в две-три минуты уплел он весь кусище пирога, запивая его из кувшинчика вином, а покончив с едой, не отнимал уже кувшинчика от губ, пока его до дна не опорожнил. Сидя верхом, как на коне, на опрокинутой пчелиной колоде, он в наилучшем расположении духа, слегка, по-видимому, уже навеселе, замурлыкал про себя какую-то удалую песню.
— Да ты бы немножко погромче, а то не разобрать, — сказал ему Юрий, усевшись с Илюшей и Кирюшкой на другую колоду. — Про кого это? Не про вольницу ли вашу?
— А то про кого же? Послушать любо-дорого! — отозвался разбойник и, отерев усы, затянул вполголоса:
Как по той ли по реке по Волге-матушке
Выплывают ли стружечки молодецкие;
На стружечках тех сидят удальцы-гребцы,
Удальцы, все молодчики поволжские.
Хорошо удальцы все изнаряжены:
На них шапочки собольи, верхи бархатны,
На плечах у них кафтаны однорядочны,
Канаватные бешметы в нитку строчены,
Галуном рубашки шелковы обложены,
Сапоги на всех молодцах сафьяновы,
Они веслами гребут, поют песенки…
— Вот так-так! — воскликнул Кирюшка и щелкнул языком. — Кабы и нам тоже!
— Да точно ли все вы там так уж богато разодеты? — усомнился Илюша.
Шмель лукаво прищурился одним глазом.
— Побывай к нам на Волгу, покатаем тебя на наших стругах — своими глазами тогда все увидишь.
— А струги ваши что такое? Большие деревянные лодки?
— Деревянные, но раззолоченные, уключины серебряные, паруса шелковые.
— Ну, этому я, брат, не поверю! Откуда у вас столько золота, серебра и шелку?
— Не веришь — не верь, твое дело. А посмотрел бы ты, как мы, бывало, дуван дуваним, нажитое, значит, на Волге добро меж собой делим, — у самого бы, поди, глазенки разбежались.
— А что он, атаман-то ваш, таперича все на Волге гуляет? — спросил Кирюшка.
— Батюшка-то наш Степан Тимофеич? С летошнего года он у персидского султана гостит, да ныне, слышь, опять в Астрахань ворочается, по Волге-матушке, знать, взгрустнулося.
— Своих опять, русских людей пограбить захотелось? — заметил Илюша.
— Эх ты, миляга мой! Не в грабеже, не в корысти одной у нас дело, дело в воле, в удалой потехе. А где и воля, где потеха, как не на Волге-матушке, да на море на Хвалынском.[5]
Юрий до сих пор не промолвился еще ни словом, но судя по его задумчивому, сумрачному виду, хвастливые речи товарища пресловутого атамана разбойников запали ему глубоко в душу.
— Но ведь Разин, кажись, из донских казаков? — спросил он Шмеля.
— Из донских.
— А ведь те живут у себя на Дону станицами и присягали на верность нашему московскому царю?
— Присягали, точно, и домовитые станичники служат ему верой и правдой по-своему: коли супостат какой, примерно, пес крымский, хан татарский, на Русь войной пойдет, — донцы уже тут как тут, вкруг стана' вражьего гарцуют, не дают поганцам покоя, отбивают у них обозы да разносят вести по городам и селам, что "супостат, мол, идет: берегитесь, люди православные!"
— Но и Разин же ведь тоже присягал государю?
— Об этом сказать тебе не умею. Не моя забота.
— Да коли он атаман…
— Атаман, да не войсковой…
— А самовольный, разбойничий?
— Изволишь ли видеть, — уклонился Шмель от прямого ответа, — доподлинный-то наш, выборный войсковой атаман Корнило Яковлев не пускал Степана Тимофеича с Дону на Азовское море пошарить туречину: белый царь-де живет ноне в мире с турским султаном, не велит его забижать. Ну, а душа простора просит! Ведом ли тебе, сударик, обиход голытьбы казачьей?
— Какой такой голытьбы?
— Да бессемейных, бездомных казаков. Пошатавшись за лето по белу свету, испрохарчившись до последнего гроша, всяк к зиме теплый угол отыскать себе норовит, а где его и искать, как не на тихом Дону? И лежит молодец там всю зиму зименскую за печкой, что сурок в своей норе. По весне же по ранней и птица тянет. Как пройдет тут по станице ясным соколом наш Степан Тимофеич, как кликнет клич: "Эй вы, казаки добры молодцы! Кому охота со мной на Волгу рыбу ловить?", — тут все лежебоки вспорхнут вольными птицами — и на Волгу.
— Пока не попадут в руки стрельцам, — досказал Илюша.
— С Степаном-то Тимофеичем? Ха! Руки коротки.
— Тебя ж, однако, схватили?
— Да отчего, спроси, схватили? Оттого, что сам-то он, наш батюшка, в те поры был уже за горами, за морями, в персидской земле. Не слыхали вы, что ли, ребятушки, как он вызволился с товарищами из острога?
— Как?
— А вот как. Привели его к другим колодникам.
— Здорово, молодцы! — говорит.
— Здравствуй, батюшка наш Степан Тимофеич!
— Чего здесь долго засиделись? Пора вам и на волюшку выбираться.
— Пора-то пора, — говорят, — да не выбраться из-за девяти замков, десяти затворов. Разве что твоей хитростью-мудростью.