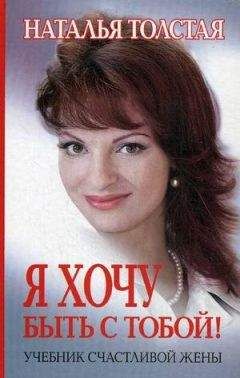Татьяна Свичкарь - И сколько раз бывали холода (сборник)
К морю мы ходили переулком, который назывался Хрустальный. Ничего не было в переулке этом, кроме пыли под ногами и зелени ветвей над головой, – ни родника, ни ручейка, но он поил одним своим названием.
К морю вела крутая лестница – ступенек в полтораста. Нас провожала рыжая хозяйская собака Тобик. Короткими своими ножками пёс преодолевал лестницу – вниз, потом вверх. И, не любя плавать, но тревожась за нас, идущих в воду, он перепрыгивал с камня на камень, заходил всё дальше в море и на последнем каменном островке, тихо повизгивая, ждал нас.
…Это чувство свободы и лёгкости, память полёта – на всю жизнь. Лежишь на упругих сине-зелёных волнах, когда качает тебя – всё море! Ты – на его руках, а над головою – во всю ширь – ещё один океан – воздушный. И холодно мокрым волосам, и вновь плавно поднимает тебя море. Ничего, кроме моря, неба и тебя, – нет.
И ещё, когда бежишь по берегу, по краю воды… Пустой утренний пляж, и мама: «Ирочка, ещё купаться нельзя, ещё холодно».
Море, отдохнувшее за ночь от тысяч тел людских, погружавшихся в него вчера, отдохнувшее это море как слеза прозрачно.
Мне не разрешают плыть, но разрешают бежать. И, пока мама сидит на скамейке, уткнувшись в журнал, я бегу… Этой жажды бега, какая была в детском теле, именно жажды, когда бег необходим не меньше, чем пересохшему рту – вода, я с тех пор не помню. Сорваться с места в бег и – пока не кончатся силы… А ноги так легки, что, кажется, и следов на песке не оставляют…
Нам не пришлось увидеть, как «фонтан черёмухой покрылся»: стоял жаркий август.
Помню Привоз. Мама покупала здесь бычков – квартирная хозяйка научила её удивительно вкусно жарить их, обмакивая в разболтанное яйцо. Получалась рыба – то ли в омлете, то ли в лепёшке. Хрустящая корочка… Бледные, сахаристые на разломе помидоры… Крупная соль…
– Дочка, ты тут оживаешь, – говорила мама. – А дома и двух ложек супа не могла проглотить…
Она пододвигала мне тарелку, и лишь годы спустя я узнала, что денег в ту пору в семье было в обрез и мама, стремясь накормить меня, почти голодала сама.
Но ярче всего остались в памяти раковины, которыми на Привозе торговали у входа. Привезённые из жарких стран, огромные, невиданной формы и изгибов, с шипами. Розовые, голубые, перламутровые… Даже не верилось, что кто-то может ими владеть, держать их, осторожно проводить по шипам пальцем. На них довольно было смотреть, потому что это была живая сказка, сокровища из «Русалочки» Андерсена.
Моя подруга говорила о своём псе: «Я завидую ему до ненависти – только гулять, есть и спать. Такая жизнь…» А я тогда до ненависти завидовала тем, кто навсегда поселился в Одессе. В краю, где жарят каштаны и бычков. Где оживают сказки и дышишь свободой.
Море… Какое было счастье плыть по солнечной дорожке, пока берег не начнёт таять за спиной, и под тобою – только упругость волн, и ветер насквозь продувает волосы – мокрые и солёные. Это ощущение свободы осталось со мною на всю жизнь, жилкой, бьющейся возле сердца. Тающей скрипичной нотой, вызывающей слёзы.
Лютой мечтою, которой после детства суждено сбыться – только в раю.
Но сейчас, когда уже давно кончился фильм и экран тёмен и мёртв, звучит во мне, не умолкая, распев нежных женских голосов – о голубом шаре, и ноги чувствуют прохладу песка и лёгкую пену заплёскивающих их волн.
Конец декабря. Вечер опускается в ночь.
Я лежу на широкой своей постели, раскинув руки, как будто кружилась и упала навзничь. Окно не задёрнуто шторами, и я смотрю, как сменяющими друг друга волнами – высотою до неба – накатывает метель, засыпая мир мелким, искрящимся в свете фонаря снегом.
Я укрыта старым мягким пледом. Таким невесомым, что я не чувствую его, и кажется – обнимают меня крылья ангела.
А тогда была весна. Точно, весна… Я помню, что очередную пневмонию меня угораздило схватить в мае.
Мне было двенадцать лет. Стационар был мне домом вторым, но отнюдь не родным – я его ненавидела. Он означал разлуку надолго – с домом, с близкими, со всей моей привычной жизнью. Особенно тяжело было в боксах, где полагалось отлежать первую неделю. За это время должно было выясниться, насколько болезнь тяжела, не заразна ли. А в моём случае ещё – не откинусь ли я на тот свет. Слишком слабая, а в груди – чистые джунгли, будто поселились там неведомые звери – и стонут, и свистят, и храпят, и хрипят. Как этого задохлика женского рода ещё ноги носят?
До сих пор удивляюсь, что никому и в голову не приходило организовать досуг детей, недели на три заключённых в больницу. Медсестра с таблетками и уколами, хождение на процедуры и в столовую – вот и всё, чем был заполнен день.
Самый щемящий момент, когда приходят родные. Тогда нас вызывают в холл. Холл – в моём детском сознании – от слова «холод». Сквозняками здесь тянуло как от парадного хода, так и от чёрного. Мама поспешно накидывала мне на плечи пуховый платок, усаживала рядом с собою на стул и доставала из сумки очередную банку с едой.
– Чтоб всё до последнего кусочка скушала – а то на операцию положат, лёгкое отнимут…
Кого-то в детстве пугают бабаем, кого-то милицией. Меня – операцией. У кого какая страшилка, а у меня была эта.
Я давилась курицей и, глотая последний кусок, с облегчением уточняла:
– Теперь не отнимут?
А картошка ещё горячая, бабушка жарила… И перед глазами наша маленькая кухня, чугунная сковородка, на которой ничего не пригорает, и уют этого часа – дома, когда вот-вот будет подан чай. У каждого своя чашка: у дедушки с тёмно-синей полоской поверху, у бабушки и мамы – с цветами, у меня – с медвежонком… Стоит теперь сиротливо та чашка…
Я жмусь к маме, обнимаю её, закрываю глаза… Родной запах. Только ни о чём не думать, прижаться, будто я дома. И слёзным спазмом перехватывает горло, когда мама начинает собираться: «Ирочка, мне уже пора».
Но сначала надо уйти мне! Мама посмотрит, как я закрою за собой дверь – тяжёлую, белую, с матовым стеклом. Хлопнула. За дверью полутёмный коридор, одна лампа освещает его – тусклая, под самым потолком. И сестра за столиком, чем-то, как всегда, занятая. Ей, в отличие от мамы, почти нет до меня дела. И запах больницы – чужой и враждебный. Потому что – разлука и боль.
А по правую руку – двери в боксы: несколько стеклянных клеток и перед каждой закуток, где стоит ещё одна кровать. Отлежать здесь неделю – тоска египетская. Крашенные жёлтой краской стены, три раза в день медсестра с горстью таблеток и стаканчиком воды. Даже окна нет. Только по маминым часам, которые она мне оставила, и поймёшь, день на улице или ночь. В стеклянных клетках ходят мамы, баюкают своих грудничков. Грудничкам хорошо. С мамой всё можно выдержать, даже уколы. А такие, как я, уже считаются большими. Нас положено класть одних, без мам.
Но именно там, в предбоксовом закутке, в первый, самый тоскливый вечер, когда я уже готовилась прореветь в подушку несколько часов напролёт, я и познакомилась с Валькой.
Когда медсестра открыла двери в стеклянную клетку напротив меня, я увидела, что там – не женщина с ребёнком, а мальчишка, мой ровесник. Он лежал на спине, на двух подушках (а у меня была одна). В левую руку его была воткнута игла капельницы. Это была первая виденная мною в жизни капельница, наверняка она имелась в больнице в единственном числе и ставилась совсем уже умирающим.
Другой рукой мальчишка рисовал что-то в блокноте. Я была робким ребёнком. Но что делать здесь, как не разговаривать, как не поддерживать друг друга? Я постояла в дверях, наблюдая за мальчишкой. Потом негромко сказала:
– Привет.
Он поднял глаза:
– Привет!
Голос доброжелательный. Можно продолжать разговор. Впрочем, мальчишка сделал это сам.
– Садись, – он кивнул на стул, стоявший у его постели.
Я вошла к нему – тощее дитя в пижаме. Вряд ли я могла в то время кому-то понравиться – словами подруги, «как женщина». Синяки под глазами такие, что панда обзавидуется. Синие перья жар-птицы на пижаме – были самыми красивыми во мне.
– Тебе удобно так рисовать? – спросила я, кивая на капельницу.
– А я попросил воткнуть мне иголку в левую руку, – ответил он, ничуть не удивившись.
Я села рядом и посмотрела в его блокнот. Сейчас мне трудно передать то первое ощущение. Неправдоподобно яркая картинка. Мы все тогда рисовали дешёвыми карандашами. Или красками. Продавались такие, не помню уж, сколько они стоили. Восемь копеек? Двенадцать? Несколько твёрдых разноцветных кружочков прилеплено к картонке.
А у Вальки были фломастеры – целая большая коробка, невозможный дефицит. Но что он делал ими! Я любила бусы из чешского стекла. Обычные бусы всегда одинаковы – полюбуешься, и всё. А из чешского стекла – переливаются, тысячу раз меняясь под каждым лучом света. Вот так же, тысячью цветов, брызгами фейерверка, светились, искрились и переливались Валькины рисунки. И неважно, что он рисовал. Дождь, осень, море – что угодно…


![Владислав Крапивин - Та сторона, где ветер [с иллюстрациями]](/uploads/posts/books/208872/208872.jpg)