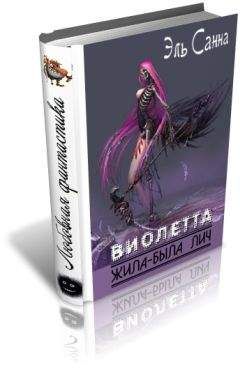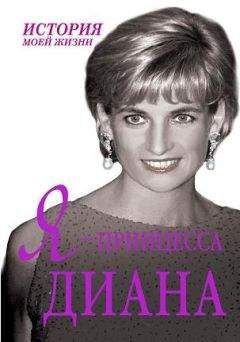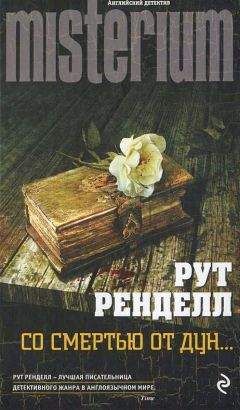Галина Демыкина - Ч. Ю.
Он шагал, шагал по комнате и вынашивал мстительные планы: назло устроиться работать грузчиком и не являться в институт — дескать, занят, работаю; или нет — проболтаться первое полугодие и засыпаться на первой же сессии; или еще — уехать в другой город…
Виктор потянулся к телефону сказать Даше, что принят. Но откуда бы он мог узнать? И отвел руку. Нет, не тот случай.
К приходу мамы Виктор поостыл. И немного одумался, отрезвел. А чего, собственно? Будто он не знает слова «блат». Его приняли по блату. Вот и все. Только лучше бы взяли деньгами, а не матерью. Впрочем, это ее дело. Он так и сказал:
— Твое дело.
— А собственно, на что ты мог рассчитывать! — взорвалась мама. — Ты меня вынудил. А уж теперь будет дело твое. Заленишься — вышибут. Я пальцем о палец не ударю.
— Ударишь!
— Ты что? Что за тон?
— Тон баловня, маменькиного сынка.
— В мое время сказали бы — Митрофанушки.
— А в мое время Фонвизина не читают.
— Чего ты бесишься, Виктор?
— Честно? Мне не нравится этот… как его?.. Брюховатый.
— Почему?
— А тебе нравится?
— Нет, Виктор. Мне нравится другой человек.
— О господи!
— Ты, Витька, теперь взрослый, студент. Я считаю свои заботы о тебе конченными. Понятно? Нет, нет, материально помогать и все такое — это конечно. Я говорю о душевных заботах.
— Мама, ты закружишься в вихре личной жизни, да? Как все равно Аська?
— Сын, я ведь с тобой серьезно говорю. Мне действительно нравится один человек, который, возможно, вовсе не понравится тебе и покажется глубоким стариком. Но я хочу сказать, что этой стороны моей жизни я прошу тебя не касаться. Я не Ася. Тебе ясно все?
— Нет, ма.
— Ну?
— А как же Греховатый? Он ведь грех на душу взял.
— Виктор, я очень уважаю Василия Ивановича.
— Он Василь Иваныч! Ха-ха-ха! — завопил Виктор.
— Я очень уважаю этого человека, — строго оборвала мама. — Его фамилия Вихроватый. И прошу тебя тоже отнестись к нему с уважением.
— И сочувствием, да?
— Почему?
— Ты ведь оставила его с носом.
Мама хотела сохранить серьезность, но улыбка чуть проступила в уголках губ. А как же! Она не была бы матерью Виктора, если бы делала из всего трагедию. Но все же она сказала:
— Он был другом твоего отца.
И Виктор не был бы Виктором, если бы хоть полсловом напомнил сейчас, что отец такого дара не принял бы никогда.
Они разогрели чай, мама достала из сумочки коробку конфет — отличный шоколадный набор, явно дареный. Они выбрали по конфетке (какая лучше?), и Виктор поднес свою конфету к маминой:
— Ваше счастье, мадам.
Мама наклонила голову:
— И ваше!
Инцидент исчерпался сам собой.
***
— Как ты полагаешь, мам, человек по природе альтруистичен?
Мама собирается на работу — в эту неделю у нее утренняя смена. Пригладила волосы, поправила воротничок — считает, что перед детьми надо быть «в форме». И собралась, между прочим, слишком рано: этакая стариковская обязательность.
— Так что ты скажешь, мам?
— О чем ты?
— Да вот у Алика есть такая теория — в опровержение общепринятой, — что у человека от животного остался не только звериный инстинкт самосохранения, но и альтруистический.
— Ну и что?
Виктор любит, когда его не понимают: насмешливое начало, живущее в нем, требует пищи.
— Это очень важно, мам: даже животным свойственны этические нормы — так утверждает Алик, — просто необходимы для выживания.
— То есть?
— А вот, например, кенгуру, когда на них нападают, сажают в мешок на животе любого кенгуренка. Не своего, а любого, понимаешь? А ведь с ним бежать тяжелее.
— Я очень рада за кенгуру, — сухо отвечает мама. — Но к чему ты завел этот разговор? Кто нападает? Кого чужого я должна посадить в свой мешок?
— Мам, ну ты уж слишком буквально…
— Я человек элементарный.
Вот с мамой всегда так: в каждой твоей невинной шутке она ищет подоплеку.
И, честно говоря, подоплека есть: еще не пропал осадок от экзаменов, еще хочется компенсации за что-то утраченное, за весь этот взлет без крыльев…
И мама, как всегда, слышит и, как всегда, во всеоружии:
— Если ты так недоволен мной, можешь действовать самостоятельно.
— Нет, я очень даже доволен. Я бы сказал, как у Бабеля: «Чересчур приятно». Просто хочется живого общения.
Мама смотрит на часы:
— Увы!
— Мам, вот ты уходишь, а мы не решили, может ли человек радоваться в одиночку.
— Ему придется, — уже в дверях бросает мама. С присущей ей сообразительностью она догадалась, о чем речь, иначе не добавила бы: — По крайней мере до появления списков. — И уже другим голосом: — Суп и котлеты в холодильнике.
Дверь захлопнулась.
Конечно, она права: вывесят списки, тогда и радуйся. Хм, «суп и котлеты». А духовная пища? Нет, каково? Быть принятым в институт и не сметь никому сказать об этом!
Виктор набирает номер.
— Даша?
— Угу! — Она что-то жует.
— Ты, надеюсь, поглощаешь духовную пищу?
— А как же!
Ну что бы ей спросить об экзаменах? Впрочем, когда она сдавала сессию, он тоже не больно волновался.
— Слушай, Витька, надо бы сбегать к Мише, пусть подарит книжку, а то у него только десять экземпляров, он сам сказал.
Виктор так и подпрыгнул:
— Звони ему скорее, и приходите ко мне. Есть небольшой сюрприз.
Но дело осложнилось. Оказывается, у Романова не работает телефон.
И вот Виктор с Дашей топчутся на мраморных ступенях возле высокой двери, обитой вылинявшим дерматином.
Романов живет в старинном особняке с голубой лепниной по фасаду. Здесь много окон, и всего одна дверь. Звонка не видно. Даша робко стучит. Тотчас же открывает лохматая старуха в валенках, смотрит ошалело и убегает в темноту, оставив их в коридоре, рядом с газовой плитой, на которой, судя по запаху, варятся щи из кислой капусты. Виктор и Даша переглядываются заговорщицки: не спросили, кто они, оставили тут рядом с заманчивыми щами.
Но их не оставили. Из темноты появляется худая женщина с лицом, лишенным цвета.
— Вы к Романову?
— Да. Можно его?
— Он спит.
— Откуда вы знаете?
— Как же мне не знать, Романов — мой сын.
Хм! Может, попросить маму, чтобы она его, Виктора, тоже звала по фамилии? Очень солидно получается.
— А нельзя ли его… — Даша подается вперед, улыбается.
— Нет, нельзя.
Эту мамашу на обаяние не возьмешь. Виктор перехватывает инициативу:
— Тогда разрешите, мы оставим записку. — Он роется в карманах, находит ручку и кусок уже ненужной (ура!) шпаргалки, пишет пастой поверх карандаша.
— На завтра, да? — спрашивает он Дашу.
Она согласно кивает. Виктор отдает бумажку женщине. Та берет сухими узкими пальцами, и вдруг лицо ее освещается: это проступила виноватая улыбка — окрасила щеки, губы, глаза.
— Вы не сердитесь, молодые люди, но… я уж беру на себя… он будет расстроен, конечно… — и она глядит на Дашу (поняла все-таки, кто пришел к ее сыну), — но… он так мало спит… Ведь это подумать, сколько занят!
Да, да, все мамы хотят, чтобы их дети непременно много спали и вовремя ели и чтоб учились притом, и работали, и не шатались по улицам и по компаниям, и не очень-то заглядывались на красивых девочек… О господи!
Виктор сочувственно вздыхает:
— Конечно. Но вы передайте. Это очень важно.
Женщина опять косит уголком глаза на Дашу. Та моментально вспыхивает, хорошеет.
— А вы не Даша? Даша? Да?
— Как вы узнали?
— Я слышала, Миша говорил с вами по телефону. Вы заходите к нам, и вы. — Это уже Виктору.
— Спасибо.
— До свидания.
В длинном темном коридоре скрипит дверь — появляется еще одна соседка, толстая, в халате, долго и любознательно глядит вслед уходящим.
— Населенный особнячок! — качает головой Виктор.
— Все люди — одна большая семья, — в тон ему заключает Даша.
***
Нет, Даша все-таки прелесть: затею с книгами Романова она оценила сразу. Она хлопала в ладоши, смеялась, прыгала:
— Вот Мишка обрадуется! Надо их как-то разложить!
— Конечно. Мы их разложим и развесим. Стен родных не пожалею!
И, благо мама и в этот день была с утра на работе, начался великий стук. Вбили около сотни гвоздей, книжки на веревочках развесили вдоль всех стен. Сверху шла вроде бордюра полоса из портретов поэта: штук двадцать поэтов-близнецов грустно и одинаково улыбались с суперобложки. Один умный и грустный поэт, другой умный и грустный, третий, четвертый…
Как он, наверное, выбирал позу, чтобы без позы и все же, чтоб выглядеть получше… Пятый — грустный и умный поэт, шестой, седьмой.
Пониже расположились круги и стрелы обложек. Здесь прежней симметрии не было: книги были расположены и наступательно — прямо, и уклончиво — боком, и свернуты в трубочку наподобие телескопа, и посажены, как бабочки с раскрытыми крылышками.