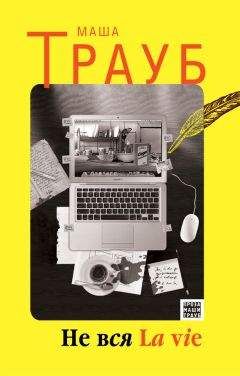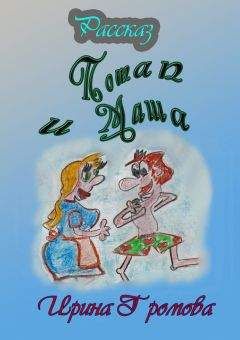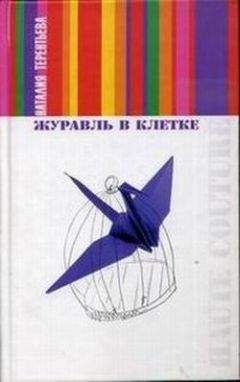Федор Достоевский - Детям (сборник)
В торжественный день он явился ровно в одиннадцать часов, прямо от обедни, во фраке, прилично заштопанном, и действительно в новом жилете и в новых сапогах. В обеих руках было у него по связке книг. Мы все сидели тогда в зале у Анны Федоровны и пили кофе (было воскресенье). Старик начал, кажется, с того, что Пушкин был весьма хороший стихотворец; потом, сбиваясь и мешаясь, перешел вдруг на то, что нужно вести себя хорошо и что если человек не ведет себя хорошо, то значит, что он балуется; что дурные наклонности губят и уничтожают человека; исчислил даже несколько пагубных примеров невоздержания и заключил тем, что он с некоторого времени совершенно исправился и что теперь ведет себя примерно хорошо.
Я не могла удержаться от слез и смеха, слушая бедного старика; ведь умел же налгать, когда нужда пришла! Книги были перенесены в комнату Покровского и поставлены на полку. Покровский тотчас угадал истину. Старика пригласили обедать. Этот день мы все были так веселы. После обеда играли в фанты, в карты; Саша резвилась, я от нее не отставала.
А теперь все пойдут грустные, тяжелые воспоминания: начнется повесть о моих черных днях. Вот отчего, может быть, перо мое начинает двигаться медленнее и как будто отказывается писать далее. Вот отчего, может быть, я с таким увлечением и с такою любовью переходила в памяти моей малейшие подробности моего маленького житья-бытья в счастливые дни мои. Эти дни были так недолги; их сменило горе, черное горе, которое бог один знает когда кончится.
Несчастия мои начались болезнию и смертию Покровского.
Он заболел два месяца спустя после последних происшествий, мною здесь описанных. В эти два месяца он неутомимо хлопотал о способах жизни, ибо до сих пор он еще не имел определенного положения. Как и все чахоточные, он не расставался до последней минуты своей с надеждою жить очень долго. Ему выходило куда-то место в учителя; но к этому ремеслу он имел отвращение. Служить где-нибудь в казенном месте он не мог за нездоровьем. К тому же долго бы нужно было ждать первого оклада жалованья. Короче, Покровский видел везде только одни неудачи; характер его портился. Здоровье его расстраивалось; он этого не примечал. Подступила осень. Каждый день он выходил в своей легкой шинельке хлопотать по своим делам, просить и вымаливать себе где-нибудь места, – что его внутренне мучило; промачивал ноги, мок под дождем и, наконец, слег в постель, с которой не вставал уж более… Он умер в глубокую осень, в конце октября месяца.
Он редко был в памяти; часто был в бреду; говорил бог знает о чем, о своем месте, о своих книгах, обо мне, об отце…
В последнюю ночь он был как исступленный; он ужасно страдал, тосковал; стоны его терзали мою душу. Все в доме были в каком-то испуге. Анна Федоровна все молилась, чтобы Бог его прибрал поскорее. Призвали доктора. Доктор сказал, что больной умрет к утру непременно.
Старик Покровский целую ночь провел в коридоре, у самой двери в комнату сына; тут ему постлали какую-то рогожку. Он поминутно входил в комнату; на него страшно было смотреть. Он был так убит горем, что казался совершенно бесчувственным и бессмысленным. Голова его тряслась от страха. Он сам весь дрожал и все что-то шептал про себя, о чем-то рассуждал сам с собою. Мне казалось, что он с ума сойдет с горя.
Перед рассветом старик, усталый от душевной боли, заснул на своей рогожке как убитый. В восьмом часу сын стал умирать; я разбудила отца. Покровский был в полной памяти и простился со всеми нами. Чудно! Я не могла плакать; но душа моя разрывалась на части.
Но всего более истерзали и измучили меня его последние мгновения. Он чего-то все просил долго-долго коснеющим языком своим, а я ничего не могла разобрать из слов его. Сердце мое надрывалось от боли! Целый час он был беспокоен, об чем-то все тосковал, силился сделать какой-то знак охолоделыми руками своими и потом опять начинал просить жалобно, хриплым, глухим голосом; но слова его были одни бессвязные звуки, и я опять ничего понять не могла. Я подводила ему всех наших, давала ему пить; но он все грустно качал головою. Наконец я поняла, чего он хотел. Он просил поднять занавес у окна и открыть ставни. Ему, верно, хотелось взглянуть в последний раз на день, на свет Божий, на солнце. Я отдернула занавес; но начинающийся день был печальный и грустный, как угасающая бедная жизнь умирающего. Солнца не было. Облака застилали небо туманною пеленою; оно было такое дождливое, хмурое, грустное. Мелкий дождь дробил в стекла и омывал их струями холодной грязной воды; было тускло и темно. В комнату чуть-чуть проходили лучи бледного дня и едва оспаривали дрожащий свет лампадки, затепленной перед образом. Умирающий взглянул на меня грустно-грустно и покачал головою. Через минуту он умер.
Похоронами распорядилась сама Анна Федоровна. Купили гроб простой-простой и наняли ломового извозчика. В обеспечение издержек, Анна Федоровна захватила все книги и все вещи покойного. Старик с ней спорил, шумел, отнял у ней книг сколько мог, набил ими все свои карманы, наложил их в шляпу, куда мог, носился с ними все три дни и даже не расстался с ними и тогда, когда нужно было идти в церковь. Все эти дни он был как беспамятный, как одурелый и с какою-то странною заботливостию все хлопотал около гроба: то оправлял венчик на покойнике, то зажигал и снимал свечи. Видно было, что мысли его ни на чем не могли остановиться порядком. Ни матушка, ни Анна Федоровна не были в церкви на отпевании. Матушка была больна, а Анна Федоровна совсем было уж собралась, да поссорилась со стариком Покровским и осталась. Была только одна я да старик. Во время службы на меня напал какой-то страх – словно предчувствие будущего. Я едва могла выстоять в церкви. Наконец гроб закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли. Я проводила его только до конца улицы. Извозчик поехал рысью. Старик бежал за ним и громко плакал; плач его дрожал и прерывался от бега. Бедный потерял свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его мокла от дождя; поднимался ветер; изморозь секла и колола лицо. Старик, кажется, не чувствовал непогоды и с плачем перебегал с одной стороны телеги на другую. Полы его ветхого сюртука развевались по ветру, как крылья. Из всех карманов торчали книги; в руках его была какая-то огромная книга, за которую он крепко держался. Прохожие снимали шапки и крестились. Иные останавливались и дивились на бедного старика. Книги поминутно падали у него из карманов в грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю; он поднимал и опять пускался вдогонку за гробом. На углу улицы увязалась с ним вместе провожать гроб какая-то нищая старуха. Телега поворотила наконец за угол и скрылась от глаз моих. Я пошла домой. Я бросилась в страшной тоске на грудь матушки. Я сжимала ее крепко-крепко в руках своих, целовала ее и навзрыд плакала, боязливо прижимаясь к ней, как бы стараясь удержать в своих объятиях последнего друга моего и не отдавать его смерти… Но смерть уже стояла над бедной матушкой!
………………………………..
Неточка и Катя
(из романа «Неточка Незванова»).
© Рис. С. Монахова, 1971
Это был второй и последний период моей болезни[7].
Вновь открыв глаза, я увидела склонившееся надо мною лицо ребенка, девочки одних лет со мною, и первым движением моим было протянуть к ней руки. С первого взгляда на нее каким-то счастьем, будто сладким предчувствием наполнилась вся душа моя. Представьте себе идеально прелестное личико, поражающую, сверкающую красоту, одну из таких, перед которыми вдруг останавливаешься, как пронзенный, в сладостном смущении, вздрогнув от восторга, и которой благодарен за то, что она есть, за то, что на нее упал ваш взгляд, за то, что она прошла возле вас. Это была дочь князя, Катя, которая только что воротилась из Москвы. Она улыбнулась моему движению, и слабые нервы мои заныли от сладостного восторга.
Княжна позвала отца, который был в двух шагах и говорил с доктором.
– Ну, слава богу! слава богу, – сказал князь, взяв меня за руку, и лицо его засияло неподдельным чувством. – Рад, рад, очень рад, – продолжал он скороговоркой по всегдашней привычке. – А вот, Катя, моя девочка, познакомьтесь, – вот тебе и подруга. Выздоравливай скорее, Неточка. Злая этакая, как она меня напугала!..
Выздоровление мое пошло очень скоро. Через несколько дней я уже ходила. Каждое утро Катя подходила к моей постели, всегда с улыбкой, со смехом, который не сходил с ее губ. Ее появления ждала я, как счастья; мне так хотелось поцеловать ее! Но шаловливая девочка приходила едва на несколько минут; посидеть смирно она не могла. Вечно двигаться, бегать, скакать, шуметь и греметь на весь дом было в ней непременной потребностью. И потому она же с первого раза объявила мне, что ей ужасно скучно сидеть у меня и что потому она будет приходить очень редко, да и то затем, что ей жалко меня, – так уж нечего делать, нельзя не прийти; а что вот когда я выздоровею, так у нас пойдет лучше. И каждое утро первым словом ее было: