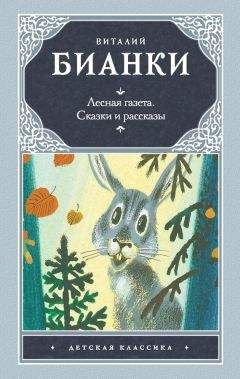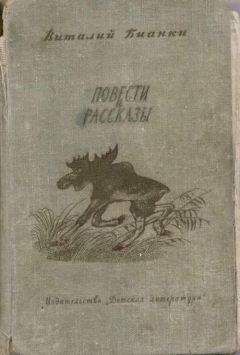Марина Москвина - Моя собака любит джаз
— Видимо, да, — серьезно ответила тетя. — Наш компьютер высчитывает сто процентов из ста.
— Нет, вы вообще отдаете себе отчет? — проговорил папа в неописуемом волнении.
Та только руками развела.
Папа вышел из ГУМа огромными шагами, с остекленевшим взглядом, он мчался, как призрак, без руля и без ветрил.
— Что это с ним? — испуганно спросила мама, выныривая из галантереи.
— Он в прошлой жизни был Лев Толстой, — ответил я на бегу.
— Ха-ха-ха! — засмеялась мама.
Папа остановился.
— Ты смеешься, — сказал он. — А это серьезное дело.
— Я всегда смеюсь, — радостно откликнулась мама. — Потому что когда я не смеюсь, я плачу! Миша, Миша, — спросила она, — а я кем была?
— Я не знаю, — ответил папа. — Понимаешь, меня в первую очередь всегда интересую я. А до других мне и дела нету.
— Все, мы погибли, — сказала мама. А папа сказал:
— У меня такой сумбур в голове. Я должен это осмыслить.
Ночью папа лежал неподвижно, как затонувший корабль, но шум папиных мыслей не давал нам уснуть. Время от времени он вставал, включал свет в ванной комнате и смотрел на себя в зеркало со смесью страха, восхищения и изумления. Утром он спросил у меня:
— Андрей, ты знаешь, что такое «пуританин»?
— Нет, — сказал я. — Я знаю, что такое «жилет» и «пипетка».
— Ты тонешь во мраке невежества, — заметил папа.
— Что ты будешь делать, когда вырастешь?
— Я буду делать очки черные от солнца, — ответил я и засвистел.
— «Нет» — глупостям! — высокопарно произнес папа. — «Да» — благоразумному времяпрепровождению!
И стал заставлять меня решать задачу: сколько процентов воды содержится в одном килограмме человека. Он из меня кровь пил, как вампир. Голова моя трещала от знаний.
Хорошо, у меня такая мозговая система — все выветривается, ничего не остается.
— Хватит тратить жизнь, — кричал папа, — на что-то малосущественное! Праздный человек — будущий преступник!
И дал мне работу — ломать ящик. Сначала я расчленил его на доски, потом вытащил гвозди, потом я их выпрямлял, потом все выбросил.
Папа был страшно доволен.
Куда только подевалась его милая привычка сесть в уголок и делать вид, что его не существует? Папа надел красную водолазку, которую он носил до женитьбы, шорты, носки и храбро в таком виде расхаживал по квартире, донимая нас разговорами о том, почему все считают себя вправе ущемлять свободу его личности.
Раньше он задавал нам с мамой вопросы типа:
— А снег во дворе растаял?
— Листья падают? Шуршат под ногами?
— Грачи прилетели?
Теперь он с головой ушел в проблемы государственного устройства, народного образования и политической жизни страны. Он все время маячил перед глазами и на чем свет стоит ругал современное общество, где нет места простому человеческому счастью.
Мама говорила:
— Миша, ты наживешь себе неприятности. А папа:
— НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!
И завел себе дневник: «Правила Жизни».
«Вот я смотрю на собаку, — писал он в своем дневнике, — и удивляюсь, как это природа устроила мудро — волосяной покров».
Раньше он ел, что попало, не привередничал, радовался каждому приему пищи, теперь же — как сядет за стол, так давай крутить носом.
— Что вы мне мясо даете? — ворчал он. — Кто это? Чистое или нечистое животное? Чистое — это то, у кого копыто раздвоено, и оно жует жвачку. Например, жирафы и горные козлы. А нечистые — верблюды, зайцы и тушканчики!
Он прекратил убивать тараканов, клопов и комаров. Комары всю кровь из него высосали, а папа смотрит на них с любовью, а ночью чешется и вскрикивает сквозь сон: «Не убий!»
Он без конца наведывался к соседям — плотнику Павлу Ивановичу и пенсионерке бабе Хасе, спрашивал, сколько они получают и чем питаются. Никто его не просил — по велению сердца папа роздал бабы Хасиным внукам все мои вещи. А Павлу Ивановичу — тот сверх всякой меры употреблял спиртные напитки — взял и подарил мамин неприкосновенный запас: банку растворимого бразильского кофе.
— Какая глыба, а? — отзывался о нем Павел Иванович. — Какой матерый человечище!!!
Я злился, конечно, ругался, но что было делать? Не убивать же родного папу! Тем более, что он засел писать роман, который в свое время начал и почему-то бросил на середине Лев Толстой; «ВСЕ о духовном развитии человека».
Папа работал над этим романом не разгибая спины много дней и ночей, отрастил усы, бороду, грозные нависшие брови, морщил лоб, ширил нос и такой давал взгляд пронзительный, что мы с мамой старались как можно реже попадаться ему на глаза.
Папа плакал, когда относил его в издательство.
— Я вложил в него все, что у меня есть, — говорил он. — Все чувства и весь интеллект.
— Ты — это встреча с прекрасным, — отвечала мама.
Но у моего папы было такое подозрение, что мама хочет одного: получить кучу денег за его роман. Поэтому он тайно от мамы написал завещание, где попросил, чтобы после его смерти произведения его ни в коем случае не стали моей или маминой собственностью, а были безвозмездно переданы народу.
Сколько с ним было забот и хлопот, сколько ужасов и препятствий. К тому же он стал дико не любить соглашаться. Хлебом не корми, только дай поперечить.
— Всю ночь лил дождь, — говорит мама.
— А мне казалось, — отвечал папа, — что всю ночь светило солнце.
— Да, я теперь не такой безмятежный, как раньше, — заявлял он. — Пашу, кошу, пишу, тружусь в поте лица. Все требуют: государство, народ…
И вдруг по поводу папиного романа приходит письмо. Рецензент Болдырев пишет, что роман плохой, длинный, скучный, совсем никуда не годный, очень плохо написан, а папа — графоман.
— Как так? — папа опешил. — Кто такой Болдырев? Кто это такой? Ни о чем не осведомленный человек! Может, просто ошибка?
И, чтобы доказать, какое этот отзыв досадное недоразумение, отправился в ГУМ за справкой, что он в прошлой жизни был Лев Толстой.
Он шагал — бородатый, в толстовке, подпоясанный, в черных сапогах, с горящими глазами: прохожие оборачиваются, мама бежит за ним, и я тоже бегу, но поодаль, делаю вид, что они не со мной.
Мама кричит на всю улицу:
— Миша! Ты только не волнуйся! Они еще пожалеют об этом.
А папа с мрачной решимостью — прямо к компьютеру:
— Дайте мне справку, что я в прошлой жизни был Лев Толстой.
И называет свой год рождения, месяц, число и час. Мама:
— Ты точно помнишь, что это случилось в двенадцать часов? Ни раньше, ни позже?
— Именно в двенадцать, — уверенно сказал папа. — По радио били куранты и звучал гимн Советского Союза.
— А ты где родился-то?
— На Урале.
— Но ведь там у вас другое время! Никто не знал, как моя мама умеет докапываться до правды.
— Да, — согласился папа, не понимая, куда она клонит.
— Значит, наши куранты у вас били в два…
— Так в два или в двенадцать? — нетерпеливо спросила оператор компьютера.
— Выходит, в два, — простодушно ответил папа.
Та все записала и эту информацию вложила в компьютер.
Через пять минут на экране вспыхнуло:
«КУЗНЕЧИК».— Что? — бледнея, проговорил папа. — Что там написано?
— «Куз-не-чик», — прочитал я. — Ты в прошлой жизни был кузнечиком!
— Ах, кузнечиком! — повторил папа, не в силах осознать, что произошло. — А каким?
— Маленьким, зеленым, — ответила оператор.
— Так, — сказал потрясенно папа и пошел не разбирая дороги.
— Миша, Миша, не верю, это какой-то ляпсус! — кричит мама. — Ты был Толстой, это видно невооруженным глазом, но только, наверное, не Лев, а Алексей!
Мы проходили мимо трикотажного отдела, и мамино внимание привлек яркий зелененький джемперок.
— Джемпер, Миша! — обрадовалась мама. — Как раз твой размер.
Она сняла его с вешалки и натянула на папу, и папа, впервые за это время, не оказал ей сопротивления. Он стоял — длинный, бледный, в зелененьком свитерке — вылитый кузнечик.
— А что? Мне нравится, — сказал папа, потерянно глядя на себя в зеркало. — Люся, Люся, — тихо проговорил он, — ты моя Полярная звезда.
— А ты мой Южный Крест, — ответила мама.
Мы вышли на Красную площадь. Ветер, небо, облака…
— А я даже рад, — сказал папа и вздохнул полной грудью. — У меня камень свалился с души. А то я подумал, что мне надо продолжать дело Льва Толстого.
Фантом Буздалова
Теперь мы висели один на один, с глазу на глаз, не на жизнь, а на смерть. Он висел ровно и немигающим глазом глядел прямо перед собой, производя впечатление человека, способного с легкостью провисеть жизнь.
Я тоже висел — несгибаемый, с бесстрастным лицом. Я знал: если я упаду — меня ждёт бесславный конец.
Как-то у нас по природоведению была контрольная на тему человека. Мы проходили голову, скелет, лопатки, зубы, уши… Все хохотали я не знаю как! А Маргарита Лукьяновна сказала: