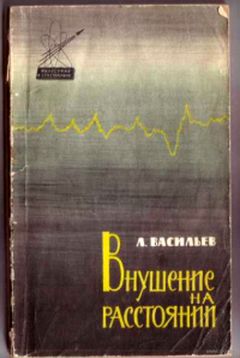Владимир Кобликов - Берестяга
…Против Трунова никто не голосовал.
Макаров горячо пожал труновскую левую руку и пригласил кивком головы к трибунке:
— Расскажи о себе колхозникам, председатель, — Макаров особо подчеркнул слово «председатель».
— Что ж рассказывать-то? Рассказывать нечего. Будем работать вместе, вот тогда друг друга и узнаем: на работе — не на собрании.
Но Трунова не отпускали. Закидали вопросами. Спрашивали о его родных, о войне, об отступлении, о немцах. А бабка Ныркова даже спросила, не видал ли он, случаем, ее сына.
После собрания временно исполнявшая до этого обязанности председателя колхоза Анна Цыбина пригласила Макарова и Трунова ужинать.
За ужином Макаров спросил, к кому можно поставить на квартиру Трунова.
— Пускай у моих шабров поживет, если понравится, — предложила хозяйка, — Дом у них большой. Хозяева — старики. Люди они добрые, мирные.
На том и порешили.
А на следующее утро Цыбина сдала Василию Николаевичу дела, показала фермы, конюшню, амбары. Потом Макаров собрал членов правления, поговорил с ними и заспешил в обратный путь.
Трунов не ожидал, что тяжко будет расставаться с предриком. Макаров понял состояние Василия Николаевича, неуклюже обнял Трунова своими огромными ручищами и сказал:
— Действуй, Николаич, действуй смелее. Звони почаще, приезжай.
…Трунов стоял у околицы до тех пор, пока санки предрика не скрылись в лесу. Ждал, что Макаров обернется, помашет, но Макаров так и не обернулся…
* * *Сани, нагруженные вещами, остановились возле крыльца. Прошка увидел в окно, как в дом направились незнакомый городской мужчина и секретарь сельсовета, жена слепого Филатки Смагина, Татьяна. Прошка ушел за печку, где стояла отцовская кровать. Берестяга сгорал от стыда. Только что он был свидетелем ужасной сцены. Бабка Груня решила «пожертвовать» для фронта пару теплых шерстяных носков и пару старых овчинных рукавиц.
Дед Игнат опешил от такой «щедрости».
— Ты что? Неси еще шубный пиджак и пару новых валенок. А то все три пары!
— Замолчи, окаянный! — прикрикнула бабка на деда. — По тебе хоть последнее добро раздай! Нету тут ничего твоего, голоштанный нечестивец. Все в доме мое… И не заикайся. — Бабка Груня угрожающе потрясла кулаком. — Сама буду с ними баять!
Все это видели и слышали Самарины. Прохор закрыл лицо ладонями и тут же услышал взволнованный и строгий голос Натальи Александровны:
— Как же вам не стыдно! У вас пятеро сыновей на фронте, а вы жалеете для них вещей. И так оскорбляете Игната Прохоровича. Он прав, а вы его оскорбляете.
Словно взорвало бабку. Она не закричала, а удушливо зашипела:
— И ты, голодранная беженка, учить меня! Я тебя пригрела, дала кров! А ты меня попрекаешь? Чтобы духу вашего голодного в моем доме завтра не было!
— Не смей! — закричал Берестяга и выскочил из-за стола.
— У, берестняковский змееныш! — Бабка наотмашь ударила внука по спине…
В хату без стука вошли городской мужчина и Татьяна Смагина. Они поздоровались от порога.
Зная, кто верховодит в семье Берестняковых, Смагина сразу обратилась к хозяйке:
— Бабка Аграфена, чего сынам-то из теплых вещей пошлешь?
— Хозяина спрашивай, — ответила старуха.
Чтобы не быть свидетелем неприятной сцены, которая должна была произойти сейчас, Наталья Александровна перебила их разговор.
— Простите, — сказала Самарина, — но я очень тороплюсь в школу, поэтому попрошу сначала взять вещи у меня… К сожалению, мы с дочкой можем дать только вот этот шарф и свитер. Больше у нас нет теплых мужских вещей.
— Вам же самим носить нечего, — удивленно возразила Смагина. — Они эвакуированные, — пояснила она городскому.
— У эвакуированных мы не берем, — сказал мужчина.
— А у нас прошу взять… Мой муж на фронте. — Голос у Самариной стал глухим, решительным. — Словом, возьмите. — Наталья Александровна положила на лавку вещи и позвала Таню.
— Пошли, дочка.
Самарины ушли. И почему-то все — и городской мужчина, и Смагина, и Берестняковы долго глядели на захлопнувшуюся за Самариными дверь.
— Проклятая война, — тихо проговорила Татьяна Смагина, а потом зло и в упор спросила Берестнякову: — Что дашь для фронта? А?
— Носки дам, рукавицы.
Дед Игнат выскочил в сени, как ужаленный. Слышно было, как он возится в чулане, чем-то там гремит. Дверь неожиданно и нетерпеливо распахнулась, и в хату влетел, не вошел, а именно влетел дед Игнат.
— Вот, держите, — и старик прямо на пол положил новый дубленый полушубок и пять пар валенок.
— Не смей, грабитель! — закричала Берестнячиха и бросилась к вещам. — Не отдам! Не имеете права! Последний крест снимаете с тела!.. Убью, постылый задохлик! — Она зашлась от ярости.
— Идемте, — брезгливо сказал городской мужчина.
— Пошли. — У порога Татьяна остановилась и, посмотрев сочувственно на деда Игната, сказала: — Не убивайся, дядя Игнат, тебя никто не осудит. Мы и заходить к вам не хотели: все ведь знают, что у нее зимой льда не разживешься. Только думали, может для детей родных не пожалеет.
* * *После их ухода в доме нависла гнетущая тишина. Дед Игнат сидел неподвижно на лавке и исступленно смотрел на отшлифованный подошвами сучок. Старик его помнил еще с тех пор, как помогал стелить половицы плотникам. Еще тогда он обратил внимание на причудливый рисунок на поперечном срезе. Издали смотреть на этот срез — вроде бы солнце заревое выныривало из воды. А иногда казалось, что солнце это закатное… От времени доска поистерлась, и сучок стал выступать еле заметным бугорком.
Бабка Груня закаменела возле отвоеванных вещей. Она растерялась. В ее душе сейчас боролись два противоречивых чувства: жадность и боязнь дурной славы. Но жадность брала верх, жадность постоянно жила в душе Берестнячихи, а чувство стыда — чувство пришлое, временное.
И вдруг бабка Груня и дед Игнат разом вздрогнули. Из-за печки, где стояла кровать Прошкиного отца и на которой теперь спали дед со внуком, раздался крик:
— Убегу!!! К папке!.. На войну!.. Осрамила!.. Убегу!
Самарины прожили у Берестняковых еще несколько дней. Бабка Груня притихла и больше не напоминала им об уходе. В душе старуха каялась, что не удержала тогда злых слов. Но слово не воробей… Бабка Груня надеялась на отходчивость квартирантки. Совсем не выгодно было для Берестянихи, чтобы Самарины ушли от них именно сейчас. Хоть и была бабка Груня человеком черствым, жадным, эгоистичным, но сильно любила внука. И не могла она не видеть, что с тех пор, как поселились у них Самарины, Прошка стал совсем другим, более поклонным, желанным, а главное — лучше учился. Раньше он приносил в табеле одни «псы», а с Таней в хорошисты вышел.
И по другой причине сейчас было выгодно Берестнячихе, чтобы Самарины оставались у них на квартире. Все село узнало историю с вещами. Все открыто осуждали бабку Груню. Ей и так не стало проходу, а уйди от них Самарины, совсем заклюют ягодинки.
* * *Прохор перестал ходить в школу и прятался от Натальи Александровны и Тани. Он считал, что они теперь возненавидели его: бабкину вину внук взял и на свои плечи.
Целыми днями Берестяга пропадал в лесу или у охотника Скирлы.
Прошка не мог прожить дня, не увидав Тани. Он выслеживал девочку, когда она шла в школу или из школы домой.
Однажды Прохор и Таня встретились на крыльце: Берестяга не успел вовремя спрятаться.
— Проша, здравствуй.
— Здравствуй.
— Где ты пропадаешь?
— Нигде, — буркнул Прохор и заспешил во двор.
Таня посмотрела ему вслед. Задумалась. Она решила, что Прохор, так же, как и его бабушка, не любит их, не любит эвакуированных. А ей Прохор так нравился. Он раньше казался Тане очень справедливым, сильным.
Неужели Таня ошибалась в нем? Неужели он притворялся. Ведь притворялась же вначале его бабушка радушной и гостеприимной хозяйкой и называла их с мамой «красавушками», «ангелочками».
Тане захотелось заплакать, но она больно прикусила губу и вошла в дом, который ей сейчас показался особенно чужим.
Прохор же страдал. Он ругал себя за неожиданную резкость. И как это у него получилось. Почему он сказал ей это грубое «нигде»? Берестяге хотелось вернуться к Тане на крыльцо и попросить у нее прощения, рассказать ей все, что у него на душе. И он собрался вернуться на крыльцо, но услышал, как открылась, жалобно пропев, дверь в сени, а потом резко захлопнулась. «Вот и все, — с отчаянием подумал Прохор. — Ушла…»
Сам не зная зачем, он вошел в сарай. Увидел топор, схватил его и вдруг стал с ожесточением колотить чураки. Ударял с каким-то остервенением по заветренным желтым срезам березовых комлистых чураков и зло ахал: — А-а-ах! А-а-ах!
И ему чудилось в эти минуты, что рубит топором все то, что связано с несправедливостью, с бабкиной жадностью, рубит те злые силы, которые разрушили его дружбу с Таней… Наконец, он выбился из сил, бросил топор и вышел из сарая. Прохор не знал, что ему делать, куда девать себя. Он постоял возле дома, а потом побрел куда глаза глядят.