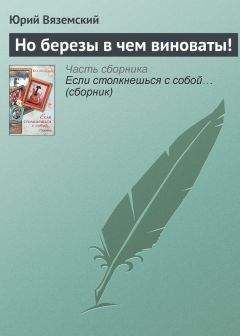Илья Дворкин - Бурное лето Пашки Рукавишникова
Пашка оглянулся.
«Старушенция» оказалась здоровенной бабищей, молодой ещё, со свекольного цвета румянцем и круглыми белёсыми глазками.
Она притиснула Генку могучими белыми руками к необъятной груди, обтянутой ярким цветастым сарафаном, и смешно шмыгнула носом. Потом утёрла глазки кулаком-гирей.
«Растрогалась, слониха», — неприязненно подумал Пашка. Он разглядывал хозяйку с удивлением, потому что таких здоровенных тёток ему ещё не приходилось видеть.
— Ах ты Цыганюшечка ты мой! Ах золотенький! Живой-невредимый. Ах ты мой родненький, — причитала хозяйка, и странно было слышать, как такая туша издаёт звуки слабые, слезливые. Пашка даже заглянул ей за спину, надеясь увидеть кого-нибудь другого — маленького и сморщенного. — Ты же в огне не горишь и в воде не тонешь, — продолжала она.
Генка довольно похохатывал и отстранялся от хозяйкиных объятий.
— Стоп, Прохоровна! Ой! Раздавишь ведь. В тебе ж десять лошадиных сил, — говорил он.
Прохоровна заливалась мелким дрожащим смешком. Генка тоже смеялся.
— Вот уж номер-то будет — отовсюду цел ушёл, а тут Прохоровна на радостях придушит. Хо-хо-хо!
Наконец оба утихли, и тут хозяйка заметила Пашку.
— Это ещё чего за гриб? — спросила она.
— Это Пашка. Парень свой, только серьёзный ещё очень. Он людьми обиженный. Гадом одним. Ты его пожалей.
Пашка заметил, как Генка подмигнул многозначительно Прохоровне, и та сразу захлопотала, заохала. Стала оглаживать Пашкину голову плотной горячей ладонью. Пашка промолчал, но весь напрягся, приготовился, как бывает перед дракой.
«Свой, говорит. И перемигивается. Не зря он меня сюда притащил. Зачем только я ему нужен, вот бы что узнать», — подумал он и заставил себя улыбнуться.
Пашка решил выждать. Разобраться, что к чему.
Хозяйка накрыла на стол. Потом долго ужинали. Генка и Прохоровна пили из зеленоватых гранёных стаканов, шумно чокались и всё смеялись каким-то своим, им одним понятным шуткам.
Видно, были они старые друзья.
Спать Пашку уложили в соседней маленькой комнатушке.
Прохоровна застелила высокую, с никелированными шарами кровать хрустящей свежей простынёй, и Пашка, умученный сегодняшним бесконечным днём, с наслаждением растянулся на ней.
Он уже успел отвыкнуть от кроватей и свежего белья и теперь блаженствовал, потягиваясь до хруста в костях.
Ему казалось, что уснёт он мгновенно, но сон почему-то не шёл — видно, очень уж Пашка устал за этот день.
За дверью долго ещё шумели Генка и хозяйка. Голоса их были пьяные и громкие.
И, уже засыпая, в обволакивающем тёплом полусне Пашка услышал, как далёкий расплывающийся Генкин голос сказал:
— Чего ж непонятного? Вчера родилась, что ли? Носить пацан после меня будет. Передам ему, и концы — улики-то тю-тю, ушли. Да я сегодня пробовал — получается. Только его ещё обламывать надо, голубой ещё. Но это — чушь. Обломается.
Генкин голос уплыл куда-то, пропал, потом снова появился:
— Мои. Это я ему подарочек устроил. Ага, на пляже, крепче на крючке сидеть будет.
Генка хохотнул.
— А если заметут? — спросила Прохоровна.
— Заметут — другого найду. На глазах ведь. Смотаться всегда успею.
Звякнули стаканы, что-то забулькало.
— Ох и человек ты, Цыганюга! — восхитилась хозяйка. — Привёз чего?
— Когда я пустой приходил? — отозвался Генка.
И голоса вновь расплылись.
Пашка покатился в сон.
Он ещё попытался разобраться, понять, ведь говорили-то про него.
Но не сумел. Усталость пересилила, и он уснул с последней твёрдой мыслью выяснить всё завтра. До конца. Чтоб ничего непонятного не осталось.
Глава двенадцатая. Извините, если что не так
Вор, ворюга, жулик — вот он кем оказался, новый дружок Генка.
Только «оказался», наверное, неправильное слово. «Оказался» — это когда неожиданно. А ничего неожиданного для Пашки не было, давно он уже чуял что-то, подозревал.
Но бессознательно отгонял от себя беспокойные мысли. Очень уж Пашке не хотелось снова оставаться одному. Он не думал об этом так определённо, ясно, не понимал этого, но это было так. Иначе не объяснить, почему, подозревая, долго не мог окончательно раскусить Генку.
Пашка старался убедить себя, что подозрительные случаи — и с деньгами и с этими чёртовыми шмотками — никакие не подозрительные, а нормальные, вполне добропорядочные случаи, с каждым может быть.
И значит, Генка не врёт, значит, Генка хороший, а он, Пашка, просто подозрительный, замороченный Лисиковым.
Так-то это было так, но всё равно где-то в Пашкиной душе шевелился червячок сомнения.
И ничего нельзя было поделать, сколько ни убеждай этого самого червячка.
И вот теперь всё стало ясно и понятно.
А было так.
Неожиданно, будто кто толкнул его в бок, Пашка проснулся и резко сел в кровати.
Он сразу вспомнил, где он и кто его сюда привёл.
В этой комнате ставен и занавесок не было, и Пашка, поглядев в окно, увидел, что воздух за стёклами ночной, синий, чуточку окрашенный рассветной краснинкой.
День ещё едва занимался. Нетронутый, новенький день. В комнате был полумрак, но Пашка разглядел всё те же шкафы и комоды с идиотскими слониками, как и там, за дверью.
Глаза его уже привыкли к полутьме, и когда Пашка спустил ноги с кровати, то сразу увидел ту здоровенную клетчатую сумку, которую вчера нёс Генка.
Пашка секунду колебался.
Он знал, что копаться в чужих вещах нехорошо, но тут был случай особый.
И он взял сумку.
Взвесил её зачем-то на руке — тяжёлая.
Широкая чёрная застёжка «молния» бесшумно раскрылась, и первое, что увидел Пашка, были красные женские туфли на тоненьких длинных каблуках.
Рядом лежала ещё одна пара, чуть побольше, белого цвета.
Туфли были почти новые.
Потом он увидел какие-то скомканные шерстяные кофты, рубашки и серые мужские брюки.
Из заднего кармана брюк торчал уголок тоненькой серой книжки.
Паспорт!
Время остановилось.
Сколько он так, на коленях, простоял возле сумки, Пашка не помнил.
Когда он очнулся, окно было уже не синее, а розовое.
Где-то там, за стеной, в прозрачном и чистом, настоящем мире вставало солнце.
Пашке было душно. Лицо его покраснело, в голове туго стучала кровь. Тревожными толчками.
Всё уже понимая, обо всём догадываясь, Пашка взял паспорт.
Раскрыл он его не сразу.
Хоть и глупо это было, но ещё теплилась в Пашке слабая надежда, что паспорт не чужой, Генкин, что вышла какая-то ошибка.
Но тут он вспомнил подслушанный вчера в полусне разговор и раскрыл паспорт.
На Пашку глядел с фотографии серьёзными, строгими глазами незнакомый светлоголовый парень.
«Кириллов Андрей Фёдорович, — прочёл Пашка. — Год и место рождения: 13 августа 1936 года, город Свердловск. Национальность: русский».
— Всё… всё… — шептал Пашка, — вор, ворюга, жулик… О-о! И я! Я тоже! Я ему помогал!
Будто кто-то повернул в Пашкиной голове выключатель. Весь вчерашний день сразу осветился по-новому — резко и безжалостно.
И стали понятны Генкины слова, улыбочки и разговоры с хозяйкой.
И никуда было от этого не деться.
Пашка заметался по комнате.
Что же делать?! Что делать?!
Он толкнул дверь к хозяйке.
Пахнуло спёртым, пропитанным кислым табачным дымом воздухом. В темноте дружно, дуэтом храпели Прохоровна и Генка.
— Нет. Так ничего не получится, — громко сказал Пашка. — Надо по-другому.
В комнате завозились. Резко скрипнули пружины. Храпеть перестали.
Пашка тихо затворил дверь. Потом подумал и просунул в дверную ручку ножку стула.
— Попробуйте теперь суньтесь, — пробормотал он.
Окно выходило в огород. Дальше серел высокий забор. Пашка бесшумно растворил окно, выглянул — никого. Тогда он стал быстро одеваться. Он не суетился, был спокоен. Паспорт незнакомого Кириллова сунул в карман. Пашка знал, что надо делать. Он решился. И оттого почувствовал себя сильным и взрослым.
Он решился и разом сбросил с себя вчерашнюю свою растерянность и свои бесконечные сомнения.
Это очень важно — решиться.
Пашка застегнул сумку, швырнул её в окно на морковную грядку и выпрыгнул сам.
Он знал, что надо торопиться, что, если Генка поймает его, будет худо.
Но, оглянувшись с ненавистью на этот поганый дом с храпящими жуликами и тошнотворными слониками, Пашка не смог удержаться и запрыгал, заплясал на старательно ухоженных грядках.
Аккуратные, как пробор Лисикова, они под безжалостными Пашкиными кедами превращались в рыхлые кучи земли, смешанной с зеленью.
Конечно, огурцы и цветная капуста, лук и клубника были ни в чём не виноваты, но Пашка видел перед собой ненавистную толстую рожу Прохоровны, слышал, как она станет охать и кричать, и топтал, топтал, пока всё не вытоптал.