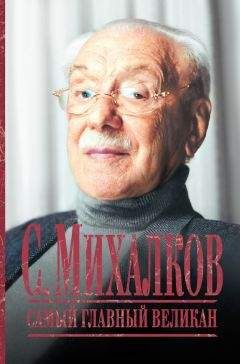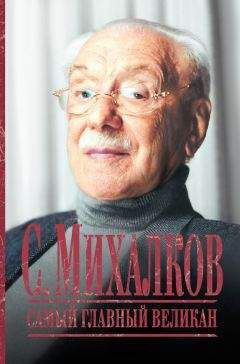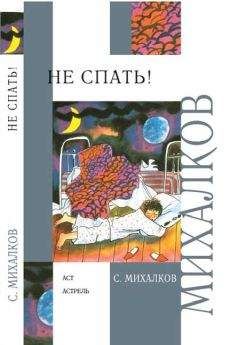Варлаам (Вадим) Рыжаков - О Гриньке, о Саньке и немного о девчонках
В перемены я, как все мальчишки, бегал по классу, по коридору, кричал и смеялся. Даже, пожалуй, слишком кричал и слишком смеялся, но это оттого, что мне было вовсе не весело.
Маринка сидела за своей партой какая-то хмурая, листала книгу и на меня не взглянула ни разу.
После уроков Маринка опять не пришла к нам готовить со мной домашнее задание.
Это меня совсем обескуражило.
Под вечер я отправился к Маринке сам. Шел и удивлялся.
Неделю назад я ходил к Маринке, ходил вот так же, ходил вот с этими же тетрадками, ходил — и хоть бы что, ходил с радостью, а сейчас шагал, как бык на бойню. Шел и упирался.
Маринка мыла пол. Дед сидел на табуретке у окна, читал газету. Бабушка лежала на печи.
Перешагнув порог, я сконфуженно прижался спиной к дверному косяку.
Маринка застыла посреди пола с тряпкой в руке. С тряпки капала вода. У Маринкиных ног образовалась лужица.
Дед выглянул из-за газеты, загадочно усмехнулся, сказал:
— Гости на гости — хозяину радости. Принимай, Марина, женихов, нешто растерялась?
— Конечно, дедушка, — натянуто засмеялась Маринка, скосила глаза в переднюю комнату, тихо сказала: «Проходи».
Я торопливо снял валенки, шапку, сбросил с себя пальто и уже метил повесить его на гвоздь, но не повесил, растерянно сник. На гвозде висело коричневое Гринькино пальто.
— Давай я повешу.
Маринка уронила тряпку и шагнула ко мне.
Я испуганно отдернул пальто в сторону.
— Не трожь!
— Обиделся, да?
— Не трожь, говорю.
Я сунул ноги в сапоги, нахлобучил шапку.
— Мариночка, — охнула на печи бабушка, — а ты бы в погреб спрыгнула. Мочеными яблоками попотчевай гостей-то.
— Я сейчас, бабушка.
Маринка проворно накинула на голову старенький пуховый платок.
— Подмыла бы, успеется.
— Я после, бабушка.
— Ну, ин как хошь.
— Постой, — шепнула мне Маринка и метнулась в кухню за чашкой.
Я вышел. Зло хлопнул дверью.
На крыльце Маринка догнала меня, взяла за рукав пальто.
— Санечка, ты что?
— Пусти. — Я резко взмахнул рукой.
— А вот не пущу.
— Пусти, сказал.
— Не пущу.
— Иди со своим Гринькой целуйся.
— Ой! — Маринка наклонилась, сделала вид, что умирает от смеха. — Придумал тоже.
— А что, не верно?
— Нисколечко.
— Зачем же он пришел?
— Узнать, что задали по русскому.
— А чего не ко мне, не к Сережке?
— Не знаю.
— Не знаешь. Любовь он крутить пришел.
— А тебе-то что?
— Встречаться мне с ним нет охоты.
— Вы поругались?
Я вынул из кармана последние Гринькины записки:
— На, почитай.
Записка первая: «Рыжий губан, откажись от Маринкиной помощи. Я видал: она вчера к тебе приходила. Чужим умом живешь. Покаешься. До самого темна сидели. Чаем ее подпаиваешь, варением подкармливаешь. Девчоночник. Четверки начал получать, пятерки. Ты мне за них кровью заплатишь. Твой враг Палкин».
— Откуда он узнал, что мы чай пили? — не отрываясь от записки, спросила Маринка.
— В окошки подглядывал. Снег под ними весь был утоптан.
Записка вторая: «От тебя я не ожидал такой подлости. Так не дерутся. Заманил к силосной яме. А я разъярился и нырнул. А если бы я шею своротил? Хорошо, что в яме воды много. Откажись, Сань, от Маринки, а? Я тебе, Сань, сам буду помогать, а? Как хочешь поклянусь. Все задачки за тебя буду решать. И драться больше не станем. Откажись. Ведь ты все одно не ее, а Нинку любишь. Пиши. Твой друг Гринька».
— Это правда? — едва слышно спросила Маринка.
— А ты как думала. Я ему…
— Возьми.
Маринка протянула мне записки, отвернулась и медленно побрела к погребу.
Ничего не понимая, я забежал вперед и преградил ей дорогу.
— Марина, — и больше я не знал, что сказать.
— Уйди! — вскрикнула Маринка и окинула меня злыми заплаканными глазами.
Я покорно отступил в сторону.
Домой возвратился угрюмый. Зашел во двор, спустил с цепи Тарзана и ушел с ним в сарай. Сел там на солому и горестно вздохпул:
— Эх, Тарзанка, Тарзанушка!
Обнял его, притянул к себе и обо всем-то, обо всем ему рассказал. А кому еще я мог рассказать? Не отцу же с матерью. Тарзан, он хоть и собака, а понял меня получше человека. Положил голову ко мне на колени, глядит мне в глаза своими умными глазами и вроде сказать что-то хочет — утешить, а не может и тоже печалится. Я взял в руки его передние лапы, пожал их, погладил и от души поклялся Тарзану разлюбить Маринку и больше никогда-никогда не влюбляться ни в одну девчонку. Пусть даже в самую что ни на есть раскрасавицу.
И я бы выполнил свою клятву, это уж точно, если бы не весна. А она нагрянула на нашу деревню, как гром с ясного неба. Все было холодно, холодно, а потом как ударит дождик, а за ним такая теплынь поперла, что нас, мальчишек, сразу к болоту потянуло. И мы бы искупались, да лед на болоте не совсем растаял.
А снег весь сошел.
За деревней на бугре даже зеленая травка проклюнулась. Маленькая такая, ершистая.
На этом бугре у нас гулянье по вечерам.
Собираются сюда все мальчишки и девчонки — и самые маленькие, и самые большие.
Взрослые мальчишки чаще сидят с девчонками на бревнах, и под гармонику или танцуют, а мы, среднячки, больше всего играем во всякие игры.
Хорошо говорить — играем.
Один взгляд девчонки, и мальчишка — самый счастливый человек, он прыгает и без удержу смеется. Но вот она, играя в «трети лишний», встала к другому мальчишке, и он — несчастный из Несчастных, он примолк, насупился.
Мы с Гринькой зорко следили друг за другом. Ненавидели друг друга и чаще всего в игре оказывались вместе, незаметно перебрасывались тумаками, а уйти не могли. Это было выше наших сил. Здесь — Маринка.
И Гриньке и мне ужас как хотелось постоять рядом с ней во время игры. Но… Если такая возможность выпадала Гриньке, то и как можно быстрее старался водить и тут же вставал к нему. Маринка убегала. Если нее мне случалось пристать к Маринке, Гринька поступал точно так же. И мы опять стояли вместе.
— Вот неразлучные, — смеялись над нами ребятишки. Мы хмурились и молчали.
Маринка вставала к нам редко. И не к нам, а к Гриньке, когда он стоял впереди меня. Ко мне Маринка встала всего один-единственный раз, да и то, я считаю, случайно.
Бегая по кругу, она запыхалась, изнемогла, и догоняющий протянул уже руку, чтобы схватить ее. Маринка извернулась и упала ко мне на руки, вздохнула:
— Извини, Санечка.
И больше ко мне Маринка не вставала. И это понятно. Жених я не ахти приглядный. Смотреть в зеркало не хочется. До чего меня изуродовала эта проклятая весна. Так-то я был в крапинках, а сейчас веснушки на мне расцвели ромашками. Все лицо обсыпали. Не лицо, а подсолнух.
Я уж натирался какой-то мазью. Грязной такой, а ядовитой — злей крапивы. У матери потихоньку уволок. Забрался на сеновал и намазался. И-и-и… Думал, что пожар занялся. Кувырком скатился с сеновала-то.
Выскочил на улицу — и к луже. Мыл-мыл, мыл-мыл — никак. Давай песком оттирать. Песком да водой, песком да водой.
Мать взглянула на меня и руки опустила, вскрикнула:
— Ой, батюшки! Сыночек!
— Чего, мам?
— Лицо-то у тебя — как флаг на сельсовете. Заболел ты?
— Не, мам. Это от солнышка — загорело.
Мать потрогала мою голову, шею. Успокоилась. Потом взглянула на улицу, на серые лохматые тучи, прищурилась, посмотрела на меня пристально-пристально и шагнула к буфету, распахнула его. Загремела бутылками.
Из буфета потянуло лекарством и головной болью.
Я поморщился. Притих.
Нет. Пронесло.
Значит, я уволок не ее лекарство, а отцовские химикаты. Через два дня кожа с моего лица сползла чулком, а ненавистные веснушки засияли пуще прежнего. По-моему, это уже свинство.
А Гринька, он стал таким… таким… справным, что, когда я гляжу на него, у меня от злобы и зависти индо внутри что-то надувается.
Брюки наглажены — обрежешься, ботинки начищены — ослепнешь. Ходит прямо, словно скалку проглотил. Важничает. Старостой класса заделался. У-у-у, дылда. Кудрей навил (сам, конечно). Не голова, а каракулевая шкурка. Красивый стал.
А что, думаешь, я не навью? Дудки. Погоди. Запрыгаешь.
Решено — сделано.
Я выбрал момент, когда дома никого не было, и затопил подтопок. Выдернул из стены гвоздь. Большущий, чудный гвоздь, но кривой. Хотел выпрямить и догадался: кривой-то он лучше. Кудрявее кудри будут. Сунул гвоздь в подтопок, накалил. Хорошо накалил — докрасна. Вынул щипцами, остудил малость и — бух его в волосы. А он, гадина, выскользнул из щипцов-то и а-яй. Голову, как ножом, резануло. Я цап рукой. Руку сварил. А гвоздь в волосах. И заметался я по комнате и завизжал. В соседней деревне, наверно, слышно было. Не помню уж, как я сунул голову в ведро с водой. Слышу: ш-ш-ш — и пар повалил.