Сергей Баруздин - Тринадцать лет...
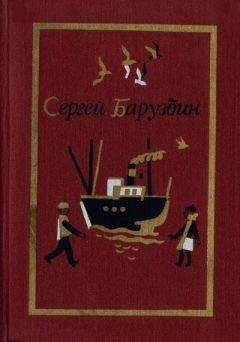
Обзор книги Сергей Баруздин - Тринадцать лет...
Сергей Алексеевич Баруздин
Тринадцать лет…
Она много читала о море — много хороших книг. Но она никогда не думала о нем, о море. Наверно, потому, что когда читаешь о чем-то очень далеком, это далекое всегда кажется несбыточным.
Она много раз видела море. Видела в Третьяковке и Эрмитаже, где была прошлым летом с мамой. Потом тоже с мамой, когда они были во Владимире в Успенском соборе, — еле видимая фреска Андрея Рублева «Земля и море отдают мертвых». Так, кажется, называлась она.
Видела она море в кино и на открытках. Видела по телевизору и на плакатах.
Но опять она никогда не думала о нем, о море…
А сейчас увидела и не поверила. Море было совсем не такое, каким она могла его себе представить. Может, оно и бывает когда-то таким, как в книгах, на картинах, на экране! Может… Наверно, бывает…
Но сейчас… Сейчас море было большое и теплое. Теплое и большое. Большое, каким может быть только море. Теплое, как мама…
Они и прежде часто оставались втроем: отец, дочь и собака. И раньше отец, возвращаясь с дежурства, заходил в магазин, а Таня готовила.
— Наша мама, скорее, мужское начало в семье, — шутил отец, — а я уж, простите, женское. Я всегда дома, а она в разъездах. У нее и профессия женского рода не имеет — геодезист…
Отец посмеивался не только над мамой. Над Таней — тоже. За то, что у нее нет настоящего призвания в жизни. За то, что она даже в школе металась между литературой и физикой, геометрией и историей, физкультурой и математикой.
— Странный ребенок ты, Татьян! — говорил отец. — Ну, хоть бы к музыке проявила наклонность, хоть к рисованию…
Он говорил «хоть бы», а Таня знала: отец хочет, чтобы она была врачом. Она чувствовала это, понимала по многим разговорам его и просто по тому, что он рассказывал ей о своей больнице. Чувствовала: это он для нее говорит.
— Нормальный советский ребенок! Слава богу, не балерина, не художница! Учиться — доучиться! Не будет этого самого призвания, пойдет в рыбный институт или в мукомольный техникум… И, в отличие от нашего папы, не будет сидеть дома. Поездит, хватит лиха… Все равно когда-то человеком станет!
Так говорила мама.
Отец действительно никуда не уезжал. Да и куда ехать врачу, прикованному к своей больнице!
Мама раз, а то и два раза в год уезжала надолго: в Анадырь уезжала, на Чукотку, в Магадан, на Сахалин и еще куда-то. Туда, где были их экспедиции. А они были всюду.
Каждая поездка оставляла след в комнате. Кора пробкового дерева. Чучело белки. Архангельская прялка. Шкура уссурийского тигра. Коралл. Почти окаменелый, с ракушками кусок мачты фрегата «Паллада», пролежавшего на морском дне сто лет. Якутский кинжал. Молдавская курительная трубка. Засушенный мох. Гуцульская дудка. Игрушки из бивня мамонта. И фотографии. И старые карты. И видавшая виды буссоль. И записные книжки, которые боялись тронуть, открыть… И Тошка, черный, как гуталин, с длинными висячими ушами спаниель, привезенный к Таниному дню рождения из Карелии…
Теперь все мучительно напоминало ее. И они с отцом старались не смотреть на стены. В комнате ничто не изменилось со дня последнего маминого отъезда…
Только Тошка, кажется, еще ждал. Облизав шершавым языком руки Тане и потом отцу, когда тот возвращался домой, Тошка долго бродил по комнате, низко опустив голову, выискивая какие-то лишь ему понятные запахи. Он прислушивался к шагам на лестнице, поднимался передними лапами на подоконник — смотрел. Обнюхивал вещи и пол, ручки дверей и одежду на вешалке. Подходил к телевизору и радиоприемнику — тоже нюхал.
Когда включали телевизор, долго смотрел на экран, словно ждал и там. А потом, к вечеру, отчаявшись, ложился на мамину кушетку, опускал голову на поджатую правую лапу и долго невесело смотрел на отца и на Таню. Ложиться на постели Тошке никогда не разрешалось. Сейчас ему позволялось и это…
Так было каждый вечер, и Таня понимала, что больше всего отец не выносит Тошкиного взгляда, когда собака забиралась на мамину постель. Он отворачивался. Или говорил Тошке:
— Пошли лучше пройдемся!..
Тошка прыгал от радости. Ему гулять бы да гулять! А Таня знала: это не Тошке говорит отец, а ей… И еще — себе! И вообще это для всех отдушина! И для Тошки, который ждет того, чего не может произойти. Умный зверь собака! Разумное существо Тошка! Но нельзя же, право, душу травить!
И они шли гулять. Ходили по Первомайской и Парковым. Их много, этих Парковых, — считать не сосчитать! — всю арифметику изучишь! А еще по Измайловскому парку. Хорошему парку, но почему-то выцветающему и какому-то слишком людному… Ходили медленно, молча, и даже Тошка не тянул поводок и лишь изредка поднимал голову от земли, смотрел на них, будто спрашивал: «Где же?»
Тошка ничего не знал…
Так прошел июнь, и июль, и август — прошли. И начало сентября, когда Таня вернулась в школу.
Оставаться втроем было нестерпимо.
Она сама предложила отцу:
— Давай, пап, поедем туда, где мама?.. Насовсем! Ведь врачи всюду нужны, и школа там, наверное, есть… Я и там смогу учиться…
Отец, кажется, только того и ждал:
— Я сам, Татьян, все эти месяцы думал об этом… Но как ты?
Отец всегда звал Таню — «Татьян». И раньше звал так, и сейчас…
— Поедем?
Они почти ничего не собирали.
— Потом, потом, — говорил отец. — Вот устроимся, тогда…
Через неделю все устроилось. Через неделю они прилетели сюда — к морю.
— Как все хорошо, Татьян! Умница ты! Смотри, как хорошо!
Таня не узнавала отца. Он оживился, посвежел и вновь чуть помолодел…
— А теперь купаться, Татьян, купаться! И — немедленно!
Утром, лишь начинает светать, море будит шумом волны. Не слышно, как шумит галька, слышно только море — спокойное и могучее, волнующееся, будто в преддверии чего-то. Просыпаешься от шума моря, и сразу становится хорошо, так хорошо, что вновь засыпаешь, успокоенный его шумом, а потом, может быть, уже и не спишь, а просто дремлешь, потому что шум моря — в ушах, и приятно слушать его.
Весь день шумит море. На пляже громче. В комнате тише. На улице, по которой мчатся машины и автобусы, еще тише. Если подняться в горы, то море еле слышно. Еле, но слышно. Его слышно отовсюду. Шум моря похож на человеческое дыхание.
Катер ли пройдет по морю, теплоход ли, военный корабль, лодка ли какая или попытаются взметнуть его поверхность отчаянные купальщики, заплывающие до буйков и дальше, оно дружелюбно-спокойно ровняет водную гладь и возвращается к прежнему раздумью. Будто ничего и не было! Ни катера не было, ни теплохода, ни военного корабля, ни лодки, ни купальщиков. Ничего!
Море не перекричать ни криками на пляже, ни гулом транзисторных приемников. Море заглушает их. Море заглушает шум дороги с бесконечно движущимся транспортом, и шум толп отдыхающих, и гудки электровозов и электричек, несущихся между морем и горами. Между морем и той горой…
…На той горе, если подняться по ней не очень высоко, была тропа. Говорили, что тропа вела к Голубому озеру и к леднику.
Говорили…
Таня не поднималась туда — не видела Голубого озера, не знала ледника. Знала только, что на этом леднике работала мама. И там все случилось…
Они поднимались в гору вдвоем с Тошкой. Ошарашенный дорогой, непривычной обстановкой, морем, горами, Тошка ничего не понимал — тянул изо всех сил поводок и рвался вперед, в гору. Они шли мимо высоких и непохожих на подмосковные деревьев. Даже похожие были непохожи. Дикорастущий клен и ольха. Ясень и дуб. Самшит и эвкалипт. Фундук и граб. Бук и пихта. Они напоминали что-то знакомое, лесное, но деревья были другие, не такие, какими их, не замечая, привыкла видеть Таня в подмосковных лесах.
Чем ближе они приближались с Тошкой к тому месту, куда шли, Таня больше натягивала поводок:
— Не рвись, пожалуйста, Тошкин, не рвись!
Тошка и не рвался. Сейчас уже не рвался. Справа — два клена. Их называют здесь чернокленами. Слева — заросли орешника. Между ними — четыре подстриженные туи и дощечка — мраморная, серая, с выбитой надписью: «М. Г. Кокорева, геодезист. 1924–1965». Вокруг дощечки на низком холмике — цветы. Это их с отцом цветы. Они приходили сюда сразу по приезде. И еще цветы. Это аджарки в черных одеждах по пути на базар положили их. Так объяснил отец. Местные женщины всегда кладут цветы на могилы приезжих. Особенно те, что сами ходят в черном. Они тоже потеряли кого-то из близких…
А Тошка, ничего не понимающий Тошка, ложится у могилы и кладет голову на правую поджатую лапу. Он смотрит на цветы и пробует нюхать их, но вроде стесняется, смотрит на Таню и опять — на цветы. Тане кажется, что невесело смотрит…
Внизу шумит море. Его видно. И слышно. Но отсюда, с горы, оно совсем не такое, как там, внизу. Оно бледное, разноцветное и далекое. И только шум его, еле слышимый шум, говорит, что оно — море…




