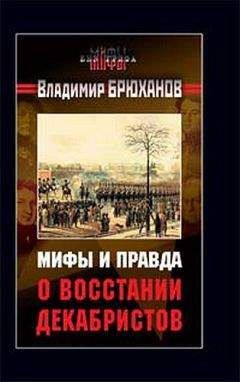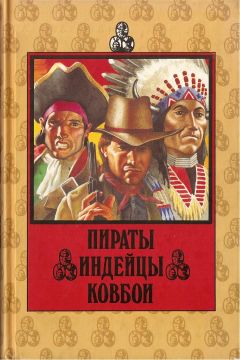Михаил Гаспаров - Занимательная Греция
Поэтому александрийские ученые очень старались раздобыть для своей библиотеки самые древние, самые надежные рукописи. Царь Птолемей отдал приказ: на всех кораблях, что заходят в александрийский порт, производить книжный обыск; если у кого из путешественников найдется при себе книга — отбирать, делать копию и отдавать хозяину эту копию, а книгу оставлять для библиотеки. Самые надежные рукописи трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида хранились в Афинах, в архиве при театре Диониса. Птолемей попросил под большой залог эти рукописи, чтобы сверить с ними книги своей библиотеки. Афиняне дали, и, конечно, царь пожертвовал залогом, вернул копии, а рукописи оставил в Александрии.
Не обходилось без соперничества. Цари малоазиатского города Пергама тоже собирали библиотеку. Узнав об этом, египетский Птолемей V запретил вывоз папируса из Египта, чтобы в Пергаме не на чем было писать. Тогда там изобрели новый писчий материал — пергамент. Это были овечьи и телячьи кожи, тонко вычищенные и выглаженные. Из них не склеивали свитки, а складывали тетрадки и сшивали их в книги, вроде наших. Пергамент был гораздо дороже папируса, зато прочней; кроме того, пергамент можно было изготовлять везде, а папирус — только в Египте. Это решило будущую победу пергамента: в средние века, когда вывоз из Египта прекратился, вся Европа перешла на пергамент. Но в древности папирус господствовал, и Пергамская библиотека так и не смогла догнать Александрийскую.
Около 700 тысяч свитков было собрано в Александрийской библиотеке. Здесь хранилось все, что было когда-нибудь написано на греческом языке. Сам список этих книг (со справками об авторах и о содержании) занимал 120 свитков; составил его тот самый Каллимах, который сказал: «Большая книга — большое зло». Кроме главного книгохранилища при Мусее, пришлось выстроить второе, при храме Сераписа. Они простояли шесть с лишним веков. Малая библиотека была разорена в 390 г. н.э., когда христианские монахи громили храм Сераписа. А большая библиотека была сожжена в 641 г. н.э., когда мусульманский халиф Омар взял Александрию. Говорят, он сказал: «Если в этих книгах то же, что в Коране, — они бесполезны; если не то же — они вредны».
«Бета-альфа — ба»
В Александрийской библиотеке занимались всеми науками. Но все науки начинались с одного — с азбуки. Так заглянем же теперь в греческую школу: в этом неказистом месте закладывались основы всего того великого и прекрасного, о чем говорится в этой книге.
Школы были маленькие: человек на двадцать—пятьдесят, чтобы со всеми мог управиться один учитель, в лучшем случае — с помощником. Ютились они где попало — обычно на дому у учителя (а мы знаем, что такое греческие глиняные дома) или в каком-нибудь городском портике, задернувшись занавеской от улицы. Платили учителям мало — примерно как средней руки мастеровым, так что были они люди бедные. Учитель сидел на высоком стуле, а дети вокруг — на складных табуреточках. Столов не было, писали на коленках. Старшие и младшие занимались одновременно: пока одних спрашивали, другие выполняли задание. Занимались и утром и вечером, с большим перерывом на обед. Выходных не было — только городские и семейные праздники. Когда в городе Лампсаке умирал философ Анаксагор и горожане спросили, чем почтить его память, он сказал: «Пусть в день моей смерти у школьников не будет занятий».
Читать учились по складам: «бета-альфа — ба, гамма-альфа — га, бета-ламбда-альфа — бла, гамма-ламбда-альфа — гла…» и так далее, перебирая все возможные сочетания, пока они не начинали узнаваться с одного взгляда. Времени и сил на это уходило невероятно много. Но учителя были неумолимы. Они твердо считали, что чем корни учения горше, тем плоды его слаще, и напоминали ученикам об олимпийских бегунах: на тренировках они подвязывают себе свинцовые подошвы, чтобы потом на состязаниях лететь, не чуя ног. Наш нынешний способ обучения грамоте (не «по буквам», а «по звукам»: м-а — ма…) был изобретен всего сто с лишним лет назад и пробивал себе дорогу с боем: еще Лев Толстой утверждал, что по-старинному, по складам, учились лучше. Одолев склады, читали первые слова — имена богов и героев: «Зевс. А-фи-на. А-га-ме-мнон». За первыми словами — первые фразы; обычно это были поучительные стихотворные строчки:
Прекрасен тот, кто вправду человек во всем…
Приятно, если умный сын в дому растет…
Пусть все несут совместно бремя общее…
Читали только вслух: греческие строчки, где не было пробелов между словами, а были ударения, иначе читать было трудно. Даже на исходе античности на тех, кто умел читать про себя, смотрели как на чудо света. Очень много учили наизусть. Были такие любители, которые знали наизусть всего Гомера; правда, их почему-то упорно считали дураками. У профессиональных ораторов, которым нужно было держать в уме большие судебные речи, память бывала почти фантастическая: они умели, например, прослушав впервые сто строк стихов, тут же повторить их от конца к началу.
Писать учились на дощечках величиной с ладонь, покрытых воском и скрепленных шнурками в книжечку. Писали палочкой, заостренной с одного конца: острым концом выцарапывали буквы, тупым заглаживали неправильно написанное. Это оказалось очень удобным: так писали потом почти все средневековье. Многие такие деревянные тетрадки сохранились; надо признаться, что буквы в них часто бывают почти неузнаваемы, и ученые с трудом их расшифровывают. Что делать: на воске хорошо пишутся прямые линии, но очень плохо — изогнутые. (Кто хочет — пусть проверит.) Часто можно видеть: верхние строчки на табличке — четкие и аккуратные (они были обведены по трафарету или написаны для образца учителем), а дальше — чем ниже, тем хуже. Впрочем, в современных школьных тетрадках бывает то же самое…
Для упражнения в счете служила клетчатая доска — «абак». В ней были клеточки для единиц, десятков, сотен и так далее; на клеточки клали камешки или бобы, от одного до девяти. На таких клетчатых счетах нетрудно было научиться сложению, вычитанию и даже умножению (делению — гораздо труднее), а потренировавшись, можно было производить эти действия и в уме. Тем не менее с арифметикой древним было тяжело: до нас дошло много случайных обрывков хозяйственных счетов и прочего скучного материала, и ошибок там больше, чем в тетрадке у любого из вас. «Прогресс науки, — сказал один современный математик, — не в том, что мы умеем делать, чего раньше не умели, а в том, что сейчас каждый умеет делать то, что раньше умели лишь талантливые».
Кроме чтения, письма и счета, нужно было учиться музыке и пению: каждому гражданину предстояло хоть иногда участвовать в праздничных шествиях и хорах. Пение было проще, чем теперь: только в унисон, без нынешнего многоголосья, чтобы отчетливее было слышно слова. Зато учиться пению было труднее: перенимать можно было только с голоса, нот не было, в лучшем случае были значки для подкрепления памяти. Пение сопровождалось игрой на кифаре с семью струнами, по которым ударяли костяным бряцалом. Сперва упражнялись и на дудке, но потом бросили: решили, что раздувающиеся щеки уродуют лицо, а стало быть, дудка недостойна свободного гражданина, который должен быть обязательно красив, и дудку оставили рабам.
Вот на эту начальную премудрость тратил юный грек лет шесть—восемь своей жизни — примерно до четырнадцати лет. Эту школу проходили все: неграмотных в Греции не было или почти не было (полуграмотных — сколько угодно). А затем, если у тебя был интерес, способности и деньги, ты мог брать уроки у специалистов — словесников, математиков, врачей.
Большая порка
Школьники в Греции, как и во все времена, бывали разные. Поэтому, может быть, не лишней будет и вот такая сценка в стихах, сочиненная поэтом Геродом как раз в то время, о котором мы рассказываем. Называется она «Учитель», действие происходит в школе; к учителю Ламприску является старая мать одного из школьников и тащит за собою сына.
Мать. Ламприск, любезный, пусть тебя хранят Музы!
Будь добр, возьми ты моего сынка в руки,
Да растяни, да всыпь погорячей розог!
Вконец он разорил меня игрой вечной
В орлянку — бабок, видишь ли, ему мало!
Небось давно забыл он дверь твоей школы,
А вот кабак, где пьянка да игра, — помнит!
Доска его вощеная лежит праздно,
Пока он не посмотрит на нее волком
Да и не соскребет с нее всего воска.
В письме не разберет он ни аза, если
Ему не повторить раз пять подряд буквы.
Попросим мы с отцом его прочесть вслух нам
Стихи, какие в школе наизусть учат, —
Он цедит, как по капле: «А-пол-лон — свет-лый…»
«Послушай, говорю, я не была в школе,
Но уж и я и первый беглый раб этак
Прочесть сумеем!» А ему ничто: весел,
На крышу влезет да сидит, спустя ноги;
Его-то мне не жаль, а только жаль крышу:
Как завернут дожди, так это мне, бедной,
За черепицу каждую платить надо!
Ох, дура я: ослов ему пасти впору,
А я-то грамоте его учить стала,
На черный день подспорье чтоб иметь в сыне!
Ламприск, прошу я, сделай для меня милость:
Отделай мне сынка, чтобы вовек помнил!
Учитель. Давно готов, не надобно и просьб лишних!
Эй, Эвтий, Финтий, взять его, держать крепче!
Каков малец! Из бабок, говоришь, вырос,
А с голытьбой в притоне биться рад в деньги?
А ну-ка, где мой бич, где бычий хвост едкий,
Которым я лентяев по спине мечу?
Сын. Ой, милый, ой, Ламприск, ой, всех богов ради,
Не надо бычьим: бей меня другим лучше!
Учитель. Нет, дрянь ты, малый! Если попадешь в рабство,
То грош тебе цена там на любом рынке!
Сын. А сколько же ты мне ударов дать хочешь?
Учитель. А ровно столько, сколько мать твоя скажет!
Сын. Ой, сколько, мать? Ой, ой, в живых оставь только!
Мать. А столько, сколько вынесет твоя шкура!
Сын. Ой, я не буду! Ой, Ламприск, не бей больше!
Учитель. Ишь, что за голосок! А ну, молчать, слышишь?
Сын. Молчу, молчу; ой, ой, не убивай насмерть!
Мать. Дери его, Ламприск, не отпускай парня!
Учитель. Довольно: он уже пестрей змеи пестрой;
Ужо еще, как отвечать урок будет,
За каждую ошибку я сполна всыплю.
Вот так-то: хочешь меду — берегись жала!
Урок словесности