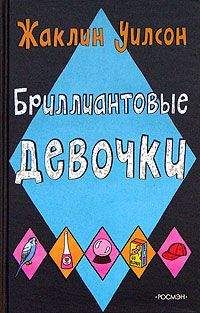Александр Тюрин - Программируемый мальчик (педагогическая фантастика)
Все было разложено по полочкам! Так верно, что хотелось дать ему по морде… А словечко это — “целесообразно” — просто убивало. Два месяца Токарев его не слыхал и надеялся больше не услышать…
Не успел Саша набрать номер и вякнуть в трубку: “Мама!”, как на него обрушился поток причитаний и выспрашиваний: где он, с кем, как посмел и так далее. Ему сообщили, что папа уже обегал всех его “дефективных приятелей” (с чем нельзя было не согласиться) и допросил их с пристрастием. А папу допросили в милиции, куда он заявил о пропаже ребенка. На прямые вопросы Токарев вежливо отвечал, не указывая своего местонахождения: “Да у товарища, вы его все равно не знаете!”, но это почему-то не помогало. Чтобы сменить тему, он поинтересовался, чем сегодня будут пороть — рейсшиной или, как обычно, журналом “Огонек”. Папа обнадежил, пообещал, что применит только старый добрый флотский ремень… Саша не очень-то вслушивался в их горячие речи, пока мама не стала защищать его многострадальную задницу от папиных посягательств. При этом она употребила странную фразу: “Нельзя его пороть, ему же в сидячем ехать”. Тут и Токарев оживился: куда ему в сидячем?! Выяснилось, что вчера принято окончательное решение отправить ребенка в Псков, под негласный надзор бабушки и прочей папиной родни. На годик-другой, а там в морское училище, на казенные харчи. Климат-де в городе сырой, воздух и вода загажены, всюду компании распущенные, и от этого — болезни, заторможенность в умственном развитии и, самое главное, полная Сашина невоспитуемость. В общем, светила ссылка в незагаженную местность, как Пушкину в свое время. Услышал Саша такое и ужасно обрадовался! Даже “спасибо” сказал. Думал ведь — в тюрягу, в колонию или в “психушку” его оформляют. А у бабушки жить можно. (Хотя она покруче будет, чем папа, все-таки капитан милиции в отставке.) И Псков не деревня. Наоборот… Токарев набрал побольше воздуха:
— Псков — это город, центр Псковской области РСФСР, расположен на реке Великая, узел железнодорожных линий — на Ленинград, Вильнюс, Бологое, Ригу — и шоссейных дорог…
11
…Долдоню прямо в телефон, подробненько — про железнодорожные линии, про псковские дороги, про население. Вся эта белибердовина возникла у меня в голове сама по себе, сразу после маминого сообщения о моей высылке. Во лбу будто зажглась лампочка и осветила справочную панель, вроде тех, что на вокзалах. Панель листается, а я читаю: “…развита также легкая, особенно льнообрабатывающая, и пищевая промышленность…” Читаю и думаю: ага, жратва есть, без одежки не останусь. А потом с гордостью закончил: “На 1 января 1974 года в Пскове было 11 больничных учреждений на 2,8 тысячи коек, что составляет 0,02 койки на одного жителя!” Моим знаниям удивились и мама, и папа, и особенно я. Только стоящий рядом Хлумов согласно покивал головой: правильно, мол, без ошибок. Мама стала меня успокаивать. “Зачем,— говорит,— тебе койка в больнице, ты у нас пока здоровый, а в Пскове и вовсе возмужаешь”. И папа пошутил слегка невпопад: “Только не женись сразу, там девки хваткие”.
Разговор закончился быстро. Причем неожиданным образом — Хлумов вынул у меня из руки телефонную трубку и сказал механическим голосом: “Внимание, извещение узла связи. Номер отключен, номер отключен, номер отключен…”
Затем нажал на рычаг. Я посмотрел на него с восхищением, а он пояснил:
— Времени осталось ровно столько, чтобы средним шагом дойти до места. Не забудь, тебе нужно внимательно наблюдать за обстановкой на улице.
Меня что-то насторожило в его словах, но я был слишком ошарашен своими невесть откуда взявшимися познаниями о Пскове и поэтому не стал уточнять. Случившийся со мной приступ неестественной болтовни очень напоминал “отходняки”, которыми я страдал не так уж давно! Тогда в меня пытался вселиться телевизор. А сейчас что со мной? И сон был подозрительный, как я сразу-то не сообразил! Но ведь ночные ковыряния в моей голове вовсе не означают, что меня пытались упорядочить,— просто поковырялись и захлопнули крышку… Ничего не понимаю.
Спохватился я, только выйдя из дома:
Хлумов, с чего ты взял, что мне по улице ходить сложнее, чем другим? Что там тебе натрепали про меня?
Я пользуюсь информацией из надежных источников. Если бы источники были ненадежными, то лежать тебе под малярной люлькой в расплющенном состоянии, что серьезно повредило бы твоему здоровью.
Черт, прямо в “яблочко”! Я даже поежился. И откуда он все знает? Я спросил:
— Хлумов, скажи, только честно: и откуда ты все знаешь? В разведке работаешь?
— Я работаю на Всевключ, говорил же тебе. Всевключ предоставляет каждому отдельный информационный канал. Я пока что умею пользоваться этим средством лучше остальных.
Опять темнит! Что ни фраза, то какой-то намек, полунамек— попробуй разберись. Я обиделся и остаток пути молчал. Следил за пейзажем — не подстраивается ли где-нибудь бяка. Система-то не дремлет, понимаешь. Все было тихо. Правда, это не показатель безопасности. Но и напряжения в воздухе не чувствовалось, у меня ведь нюх развился, как у дикого зверя. Может, рыжий так успокаивающе действует на агрессоров? Тогда oн выгодный спутник, хоть его и не любят мои чистенькие друзья.
Когда я увидел рожи одноклассников на фоне гаражей, догадался: мы пришли Их было семеро, как гномов из сказки, восьмым стал Белоснежка Хлумов. Прямо скажем, мои не самые любимые коллеги по учебе. Увидев нас, они слаженно выстроились в линейку, кто-то скомандовал: “Товарищи подключенцы, смирно!” Хлумов демократично махнул рукой, дескать, вольно. Линейка распалась, образовался полукруг. Этот самый актив начал работу. Первым заговорил Тугаринов — есть у нас в классе такой акселерат, ростом даже выше Алекса и толще Жарова. Выяснилось, что егo звено обнаружило вчера возле углового дома на Будапештской ресурс типа “холодильник” категории “выброшенный устаревший”. Вчера же вечером ресурс был слан человеку из списка “посредники и приемщики”. При переноске пострадал Иванов, точнее, его нога, и ему следует начислить на пять очков больше. Затем поочередно рапортовали остальные члены актива. Например, Сутягин наплел про каких-то “недожатых пенсов”, которые, владея большими бутылочными ресурсами, не желают с ними расставаться даже в обмен на расширенный объем услуг, и потребовал разрешения применить к ним меры особого воздействия. Хлумов скрепя сердце согласился. Глядя на радостно хихикающего Сутягина, я подумал, что “меры особого воздействия” — это запущенный в окно кирпич. Потом Хлумов, не называя виноватых, но многозначительно поглядывая на них, осудил разгильдяйство при сборе бутылок на помойках. В последнее время, мол, попадается непозволительно много битых, до двадцати процентов. И предупредил, что с сегодняшнего дня за каждую битую бутылку будет сниматься по очку. А на возмущенные вопросы ответил, что это далеко не личное дело сборщиков, поскольку страдает много рядовых членов Всевключа, переносчики зря тратят энергию, мойщицы зря тратят мыло, сдатчики незаслуженно оскорбляются на пунктах приема, а бутылки так и не реализуются…
Нет, здесь точно шизики собрались! На полном серьезе ведут с мусором пионерскую работу и даже разговаривают друг с другом на каком-то дебильном жаргоне. Очень часто повторялась фразочка “условия соцсоревнования”. Кому-то эти условия нравились, кому-то нет. Недовольные обращались к Хлумову с предложениями, называя его “товарищ начальник машины”, а Хлумов не уставал дружелюбно поправлять: “Ребята, здесь я просто секретарь актива”. Затем рассматривалось персональное дело Лены Печкиной. Хлумов поставил вопрос, основанный на ее личной просьбе: о переносе очереди на пораньше. И добавил, что он в принципе не против такого рода поощрений. Вот тут актив встал на рога! Беседа сразу вышла за рамки, правильный полукруг смешался в буйную толпу. Мало того, что активисты орали на Хлумова: “Подумаешь, попросила!.. Все хотят!.. А я как же, я ведь тоже больше терпеть не могу!..”, они почему-то начали выяснять отношения и между собой. Сборщики покатили бочку на сдатчиков: “Одни в любую погоду, подвергая себя опасности, ползают по свалкам и вонючим квартирам, а другие отдыхают в очередях, почитывая руководства по программированию!” Представительница мойщиц Кухаркина заявила, всхлипывая, что мойщицы самые обиженные: расценки низкие, хоть целый день корячься, а очков получишь с гулькин нос. Дело дошло до того, что разъяренный Тугаринов залепил Сутягину в ухо, не поделив с ним территорию. Сутягин отошел в сторону, сел на корточки и захныкал. Два переносчика, крепкие ребята, повалили за это Тугаринова на асфальт с помощью подката и, взявшись за руки, встали на него, не давая подняться.
Хлумов страшно разволновался. Я его первый раз таким увидел. Он рявкнул: “Хватит! Информационные каналы фонят!” Даже голос у него изменился, стал каким-то звенящим, незнакомым. Никто не обратил внимания: продолжали заниматься своими “разборками”. Тогда он резко обернулся, вскинул руку и неестественно звонко щелкнул пальцами. Морда у него вытянулась, как у хорька,— жуть, меня аж передернуло. Два здоровых парня, которые играли в ножички метрах в двадцати, снялись с места и быстро направились к нам. Это были восьмиклассники из нашей школы, я их давно приметил, только решил, что никакого отношения к Хлумову они не имеют. Парни подошли улыбаясь. На плечах у них зачем-то висели полотенца. Мыться собрались, что ли? Но полотенца им понадобились совсем для другого дела: они вклинились в толпу, скрутив на ходу толстые жгуты, и начали хлестать направо-налево. Хорошо, что я сразу отошел, а то влепили бы не глядя! Чухи были будь здоров, у крысенка Сутягина чуть голова не отвалилась. Порядок вернулся быстро. Образовалась линейка, раздалась команда: “Товарищи подключенцы, смирно!”, Хлумов стал зло прохаживаться вдоль строя. Два восьмиклассника встали за спинами скисших активистов, жуя резинку и лениво поигрывая полотенцами. Я отодвинулся еще на пару шагов: мало ли что? Хлумов остановился, поднял голову и заговорил…