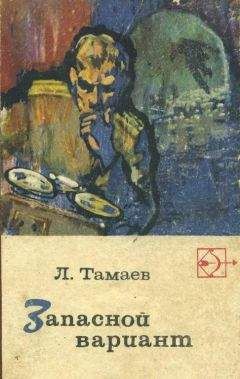Жан Жубер - Дети Ноя
Такое решение показалось нам кощунственным, и Па тотчас отказался от него.
Поразмыслив, он сказал, что мы могли бы выкопать в проходе, ведущем к поленнице, что-то вроде колодца и устроить там могилу для Зои. Под шестиметровым слоем снега она будет в безопасности, тем более что можно принять все необходимые меры для того, чтобы никакой хищник не добрался до нее, даже если ему удастся залезть так глубоко. И опять чердак сослужил нам добрую службу: мы разыскали там веревку, кусок брезента и длинный, крепкий, похожий на гроб, ящик. Завернув мертвую Зою и брезент и крепко стянув сверток веревкой, отец уложил его в ящик. Ноэми со слезами на глазах подошла и сунула в гроб какую-то таинственную бумажку, свернутую в трубочку и перетянутую резинкой. И наконец Па заколотил крышку.
Чуть ли не полдня он выкапывал колодец двухметровой глубины, снег из которого, набитый в тазы, должен был снабдить нас водой на целую неделю. Закончив, он спустил в него ящик. Мы все присутствовали кто при начале, кто при завершении церемонии, удачное осуществление которой хоть как-то облегчило нашу печаль.
Под конец Па широкими взмахами лопаты забросал отверстие снегом, плотно утрамбовав его, и пообещал нам, что, как только все оттает, мы похороним Зою на лугу, под березой.
Корова в хлеву, лежа на соломенной подстилке, задумчиво жевала жвачку, и когда мы уходили, оставляя ее одну в темноте, повернула к нам голову и тихонько, протяжно замычала.
12
Мама больна. Высокая температуря, отсутствие аппетита, боли во всем теле. Мы говорим ей: «Это не страшно, это наверное, грипп, скоро все пройдет». Она машинально кивает, поддакивает: «Да-да, конечно…» Она сидит у огня, кутаясь в одеяло, и вздрагивает от озноба. Утром она хотела встать, но ноги не держали ее. Па усадил ее в кресло, и вот теперь она пристально глядит на пламя, а потом прикрывает глаза, словно собирается задремать. Я вижу, что лоб у нее весь в ноту, а в углах губ прорезались глубокие складки.
— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает отец.
— Неважно, — говорит Ма.
— А не лечь ли тебе в постель? Может, так было бы лучше? Мы оставим дверь спальни открытой, если захочешь.
— Да, я пойду лягу. Вы тут справитесь сами, без меня?
— Не беспокойся, справимся.
Когда Ма встает с кресла, ее сотрясает внезапная дрожь; руки у нее горячие, как огонь.
— Будьте умницами, дети. Помогите тут отцу.
Когда Ма уходит, отец бросает взгляд на часы и объявляет, что нора заниматься. Мне он задаст упражнение по грамматике, и я раскрываю тетрадку, а Ноэми на другом конце стола пишет под диктовку. Отец выбрал для диктанта страницу из Жана Жионо; автор повествует о возвращении стад с летних пастбищ, и волшебно звучащие слова «свет, аромат, листва, солнце» будят в нас ностальгию по лету. Отец читает медленно, тихо; Ноэми, склонясь над тетрадкой, прилежно пишет, иногда прерываясь и покусывая колпачок своей ручки.
Время от времени Па на цыпочках подходит к двери спальни и вслушивается, стоя там, в полутьме.
— Кажется, спит. Не шумите, дети! Ты проверила диктант, Ноэми?
Потом он кладет руку мне на плечо и пробегает глазами несколько написанных мною строчек. «Хорошо, очень хорошо. Продолжай!» Так проходит часть дня, и, когда мы кончаем писать. Па исправляет наши работы и начинает рассказывать нам о Провансе [41] прошлого века, о его нравах и обычаях, но я чувствую, что думает он в это время совеем о другом.
К вечеру матери стало еще хуже: свистящее дыхание, сдавленный голос, иногда переходящий в стон. Она попыталась было встать, но, едва спустив ноги с кровати, отказалась от своего намерения.
Отец приготовил ужин, и мы молча уселись втроем перед остатками супа и блюдом с вареной картошкой. Я видел озабоченные лица отца и сестры, и тоскливый ужас мало-помалу овладевал мной. Что будет, если Ма заболеет всерьез! Ни врача, ни лекарств, если не считать каких-то таблеток в ящике да пучков лечебных трав на чердаке. Да и как узнать, что с ней? Отец говорил о гриппе, о бронхите, но на самом деле понимал не больше нашего. Я молил бога, чтобы Па оказался прав и мать выздоровела побыстрее; по какой-то тайный голос настойчиво шептал мне ужасные слова о том, что Ма скорее всего умрет, как Зоя, лежащая теперь одна в своем ящике под снегом. Я уже представлял себе, как мы роем вторую могилу, и видение это было таким ярким, что у меня на глаза навернулись слезы.
И как будто мало нам было нашего несчастья, в этот вечер опять заявились волки, и сверху до нас донесся их замогильный вой. Ма в полудреме тоже услышала его. Она умоляюще стонала: «Ах, пусть они уйдут, пусть уйдут! Я больше не могу их выносить!» Я уверен, что в этот момент отец горько пожалел о том, что не завел ружья; будь оно у него в руках, он бы, наверное, открыл решетку, поднялся на террасу и в ярости стрелял, стрелял, стрелял, пока не прикончил бы всех волков. Не в силах что-либо предпринять, он лишь приговаривал: «Зверюги поганые, ух, поганые зверюги!», и я видел, как он сжимал кулаки, словно хотел задушить их.
Потом он ушел в спальню, к Ма, и я уже не различал, что он ей говорит, так как он почти шептал, как бы убаюкивая ее; наверное, это было что-то утешительное, потому что Ма постепенно успокоилась.
Позже отец поднялся на чердак и принес оттуда два пучка травы: полынь и бурачник; он сгреб в кучку угли в камине и приготовил лечебный отвар.
Поскольку волки продолжали выть, он подкинул в огонь несколько щепоток серного порошка, которым в старину дезинфицировали винные бочки. По его словам, он где-то прочел, что запах серы отгоняет хищников. «Сейчас проверим», — сказал он и поджег вязанку хвороста, чтобы тяга была посильнее. Не знаю, сыграла ли сера свою роль, но волки в конце концов стихли.
Посреди ночи меня будит крик, в темноте я сбрасываю с себя одеяла, вслушиваюсь и сразу же узнаю голос матери, там, за стеной, — торопливый, задыхающийся. Сперва я никак не могу уразуметь, о чем она говорит, схватываю лишь отдельные слова: «Страшно… сейчас укусит… ужасный…» И опять: «Страшно…» Потом долгий стон, от которого кровь стынет в жилах, и шепот отца: «Ну, ну, успокойся, успокойся, ничего не случилось…» Но мать как бы не слышит, и снова раздается ее тоскливый крик. «Не надо, милая, — уговаривает ее отец, — ты разбудишь детей». Тогда Ма торопливым шепотом продолжает свой рассказ, и на этот раз я слышу все ее слова. Она рассказывает, как волки сломали решетку, ворвались на чердак, и она чувствует, что они близко. Вот они уже в комнате, она их видит, да-да, видит их глаза, их клыки, кровавьте пятна на боках. Глухой удар сотрясает перегородку. Я понимаю, что Ма в ужасе мечется, отбиваясь, а отец пытается удержать ее. Он твердит: «Все хорошо, я с тобой, это просто лихорадка… страшный сон…» Я сижу не двигаясь, с бьющимся сердцем, и начинаю чувствовать — словно заразился страхом матери, — как шевелятся волосы у меня на голове; теперь мне тоже чудится топот лап на чердаке. Но нет, в доме все тихо, только за стеной голос мамы переходит в шепот и захлебывается в рыдании.
Меня вдруг пробирает холодный озноб, я ныряю под одеяло, натягиваю его на голову, чтобы ничего больше не слышать, чтобы помолиться еще и еще раз: пусть все это поскорее кончится, пусть мама выздоровеет, пусть мы начнем жить, как раньше, до снегопада. Мне очень хочется спать, но я слишком взбудоражен и долго лежу, чутко вслушиваясь в тишину. Ноэми, наверное, крепко спит у себя в комнате. Во всяком случае, она даже не пошевелилась.
А потом я отчетливо слышу в тишине мерный стук стенных часов.
Небо слегка очистилось, и волки стали наведываться реже, но для нас эти дни все равно оказались самыми мрачными. Ма, прочно прикованная к постели, дрожащая от озноба, отказывалась от еды, пила только травяные настои да изредка теплое молоко, хотя и его-то глотала с большим трудом. Говорила она мало, еле слышно, и часто с наступлением сумерек опять начинала бредить. Бред был сумбурный, отрывочный, Ма смотрела в пространство широко открытыми, ничего не видящими глазами.
Отец проводил подле нее целые часы, пока мы с Ноэми читали или готовили уроки. Когда ему требовалось ненадолго отлучиться по хозяйству, он звал одного из нас себе на подмену. Маленькая лампа, стоящая на ночном столике, освещала кровать, и, когда Ма спали, я боязливо разглядывал ее застывшее лицо. Иногда, обеспокоенный ее неподвижностью, я придвигался поближе и, убедившись, что она дышит, немного успокаивался.
Я шептал: — Ты спишь? Тебе ничего не нужно? Ну скажи что-нибудь!
Ма с трудом приподнимала веки:
— А, это ты, Симон?
— Да, это я, разве ты меня не видишь?
— Нет-нет, вижу, конечно, просто здесь так темно. Спасибо, мне ничего не нужно. Разве что глоток воды…
Я помогал ей напиться, и она со вздохом откидывалась на подушку. Снопа впадала в забытье, закрывала глаза и, казалось, забывала о моем существовании. Иногда я и сам задремывал, и мне чудилось, будто я сижу у ее смертного ложа.