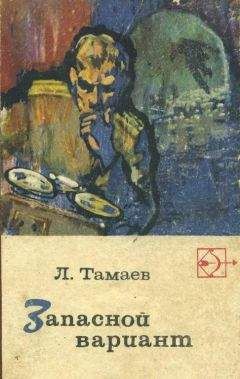Жан Жубер - Дети Ноя
Возможно ли, чтобы собаки, погребенные пол снегом, смогли прорыть в нем ходы, собраться в стаи и, гонимые голодом, бродить в этой пустыне? Может, их привлек запах пищи, доносившийся из трубы, или они учуяли наших животных? Так, по крайней мере, думал мой отец, но он не понимал, как им удавалось передвигаться по такому хрупкому насту: ведь ясно было, что удержаться на нем очень трудно. Это представляло для нас неразрешимую загадку, и, глядя в сторону холма, куда удалились нежданные гости, мы спрашивали себя, куда они могли скрыться и не вернутся ли сюда вновь.
Тогда-то я и рассказал свой сон. Все внимательно слушали меня, и едва я кончил, как Ноэми, важно покачав головой, заявила, что — да, конечно, это были волки, в книгах всегда об этом пишут, и если мы не закроем от них ставень, то они ворвутся в дом и съедят нашу козу.
Все-то она прочла, наша Ноэми: и «Красную Шапочку», и «Козочку господина Сегэна» [34], и «Белый клык» [35], и «Охотников за шкурами» [36], — наверное, все эти истории теперь вихрем бушевали у нее в голове. Она лихорадочно кусала губы и, хотя вид у нее был не очень-то спокойный, чувствовалось, что в глубине души ей это происшествие даже нравится.
— Волки бывают только в сказках, — сказала Ма, — И тебе, Ноэми, это хорошо известно!
— Нет, и в жизни тоже! Я их видала в зоопарке, когда была маленькая. Я помню!
— Да, верно, — вмешался Па, — но это последние, оставшиеся в живых, и они сидят в загонах, за решетками.
— Ага, вот видите! А вдруг они поднялись вместе со снегом, выбрались наружу и убежали в лес. А там они встретились с другими волками, из других зоопарков.
Па изумленно посмотрел на нее:
— Ну и воображение же у тебя. Ноэми!
— И вообще, — добавила сестра, разглядывая снег, — я узнала их следы.
— Как это ты могла узнать волчьи следы?
— А я видела фотографии и рисунки в одной книжке, я ее брала в библиотеке. «Хищники» — вот как она называлась.
Па изумлялся все больше и больше.
— Ах, вот как, — бормотал он, — вот оно, значит, как… Ты, значит, думаешь…
— Конечно, это наверняка они!
Да, здорово же она меня удивила, Ноэми. Присев на корточки на краю террасы, громко шмыгая носом и потирая щеки, пунцовые от холода, она водила пальцем по отпечатку лапы и вещала, как заправский лектор: «Вот, смотрите, как расставлены подушечки, как расположены когти…» Подушечки! Скажите пожалуйста! Наверное, именно так они и назывались, нашу Ноэми ведь не собьешь. Хорош я был со своим дурацким сном! Никто больше не обращал на меня внимания, все слушали с разинутым ртом мою сестрицу. Уязвленный до глубины души, я лихорадочно придумывал какую-нибудь мелкую гадость, чтобы поддеть ее, но мне ничего не приходило в голову. Я думаю, на самом-то деле я смолчал не только из ревности к ее успеху, но и из восхищения.
Постепенно становилось светлее, очертания дальних холмов все яснее вырисовывались в утреннем небе, но снежная равнина оставалась по-прежнему пустынной. Ясно было, что при этом низком, облачном небе нам и сегодня не увидеть солнца.
Мне кажется, что ни отец, ни мать так до конца и не поверили в существование волков. Па в этот день сделал в блокноте простую пометку: «Ночное появление подозрительных животных, скорее всего, бродячих собак» — и тут же перешел к подсчету продуктовых запасов и необходимости «подсократиться, поскольку наша изоляция рискует затянуться». О волках, как видите, даже и речи нет.
Зато для нас с Ноэми это слово во всей полноте обрело свое грозное значение. Я прочел слишком много историй о Крайнем Севере, и воображение тут же подсказало мне образ этих хищников с их сверкающими глазами, настороженно торчащими ушами и свирепым оскалом. Они осаждали хижины охотников, своими окровавленными клыками разрывали на куски оленя, а иногда пожирали заблудившегося ребенка. Я не забыл все эти леденящие душу истории, после чтения которых еще несколько лет назад не мог уснуть, и теперь спрашивал себя, не подвергнемся ли и мы, в свою очередь, нападению этих чудовищ.
— Па не хочет мне верить, а я тебе точно говорю, что это волки! — твердила Ноэми.
— Ты так уверена?
— Да, уверена. И они еще вернутся. А у папы даже ружья нет!
Увы, это была правда. Наш отец терпеть не мог охоту и потому не держал в доме никакого оружия; впрочем, я плохо представлял себе отца стреляющим в свору диких зверей. Он ограничился тем, что принял обычные меры предосторожности: затворил ставень окошка в хлеву и приоткрывал его только частично, на длину веревки, привязанной к засову. Веревка была вроде бы крепкая, но выдержит ли она напор возможных налетчиков? Я лично не был в этом уверен. С другой стороны, из-за этого проветривание дома, и без того недостаточное, сократилось еще больше. Запахи хлева, смешанные с кухонными, скоро стали настолько невыносимы, что отец принял решение все-таки держать это единственное окно открытым, взяв на себя постоянное наблюдение за ним.
Помню, как он сидит там, в хлеву, на старом стуле с продранным сиденьем. В слабом свете, сочащемся снаружи, он читает книгу, лежащую у него на коленях. В своей меховой шапке, куртке и сапогах он походит на канадского траппера, для полноты картины недостает только ружья. Время от времени он встает, закладывает страницу соломинкой и, взяв бинокль, поднимается на террасу, чтобы обозреть окрестности. Потом спускается, дышит на застывшие пальцы и вновь углубляется в чтение.
День прошел без всяких происшествий. Мы погрузились в повседневные заботы, и беспокойство наше мало-помалу улеглось. Когда Па с наступлением темноты покинул свой наблюдательный пост и вошел в столовую, все мы усердно трудились возле камина. Ма варила суп в котелке над огнем. Ноэми накрывала на стол, а я, как всегда, молол зерно в мельнице.
— Я ничего не увидел, — сказал отец, — Все спокойно, но на всякий случай я все же заложил окно шкворнем, мало ли что!
— Иди скорей грейся, — воскликнула Ма, — ты же весь промерз.
— Да, там, наверху, мороз крепчает.
Он скинул свою куртку и протянул руки к огню.
— Коза вот уже целый час блеет, как сумасшедшая. Сходи-ка, Симон, взгляни, не случилось ли чего.
Повторять ему не понадобилось, я тут же с удовольствием бросил свою зернотерку и побежал в хлев.
Увидев меня, коза перестала блеять, но забилась в угол возле кормушки, и я еле-еле выволок ее оттуда. Она упиралась всеми четырьмя ногами, дрожала и бодалась. Наконец она немного успокоилась, и мне удалось ее подоить; рядом тихонько мычала смирно стоявшая корова. Я поговорил с ними обеими, погладил и ту и другую, но сегодня они меня как будто не слышали. В низком хлеву было тепло, зато запах стоял гуще обычного, так как мы уже несколько дней не выносили навоз.
Кончив дойку, я поднялся на чердак, сбросил оттуда в ясли несколько охапок сена и на минутку приоткрыл оконный ставень. Глотнув холодного свежего воздуха, я прислушался, но, кроме голосов, доносящихся из столовой, ничего не услышал.
Я вернулся назад, к животным. Они жевали сено и больше не обращали на меня внимания. Деревянные стенки яслей поблескивали, как металл, в тех местах, где корова и коза терлись об них боками. Несколькими месяцами раньше мы побелили стены хлева известкой, и хотя местами она уже успела облупиться, но все же сохраняла свою молочную белизну.
Поднявшись на цыпочки, я почти доставал до потолочных балок, грубо обтесанных топором, — обычно ласточки устраивали на них свои глиняные гнезда. Теперь гнезда, конечно, пустовали, но я с удовольствием вспоминал, как по весне следил за стремительными виражами взрослых птиц, то влетавших, то вылетавших в окошко, и за горланящими птенцами с их жадно разинутыми клювиками. Где они теперь? В каком африканском крае нашли себе пристанище? Их долгий перелет вдруг показался мне фантастическим, нереальным, и я испугался: вдруг я больше никогда их не увижу!
Потом я стал размышлять о наших таинственных ночных посетителях, чье появление еще сильнее усугубило нашу тревогу. Откуда они явились, и какие тайные силы побудили их решиться на такой опасный переход? Нет, от их близкого присутствия я не ждал ничего хорошего.
Притулившись к стенке, я начинал задремывать. Мне было хорошо в этом теплом, спокойном месте, просторном и темном, как грот, — здесь стены защищали меня от внешнего мира, а мерное жевание рядом убаюкивало. Машинально я приподнял лампу, освещая потолок, затянутый густой паутиной, тяжелой от пыли. В центре одной из них, между яслями и угловой балкой, сидел и сторожил паук. Застигнутый врасплох светом лампы, он испуганно подпрыгнул и медленно уполз в щель балки, где и замер, боясь шелохнуться. Опасался он напрасно: отец приучил меня щадить животных, каковы бы они ни были, поскольку считал их жизнь проявлением мирового порядка, и единственное, что я позволял себе, это прихлопнуть комара, да и то если он уж очень досаждал.