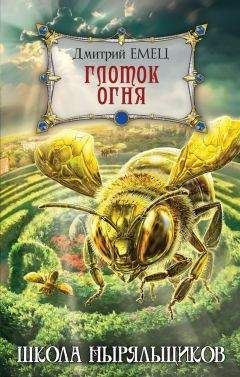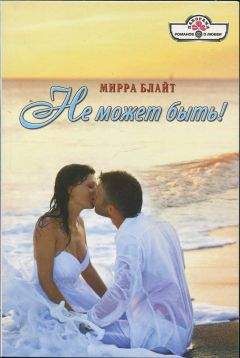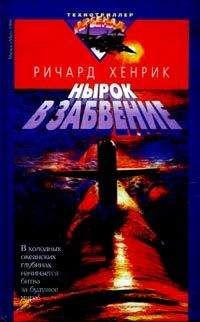Дмитрий Емец - Пегас, лев и кентавр
Мамася выключает свет. Слышно, как она топчется в дверях, но все никак не уйдет.
– Знаешь, в чем дефект твоей логики? – внезапно спрашивает она. – Тебе кажется, что что-то хорошее может не произойти, если войти не в ту дверь, или чуть задержаться, или сказать «привет!» не тому человеку. Это ошибка. События вытекают из нас самих. На поезд судьбы нельзя опоздать.
– Но можно пустить его под откос.
– Это запросто. Но опоздать нельзя. Так что эти твои два олуха просто сами хотели быть несчастными, – говорит Мамася.
Дверь за ней закрывается.
* * *Порыв ветра. Березовая ветка хлещет по стеклу. За окном раскачивается белый ствол с прикрученным проволокой скворечником. Его вешал еще папа, до Артурыча. Скворечник здоровенный, щелястый, и живут в нем воробьи. Но скворец прилетел лишь однажды, в позапрошлом году, в конце марта. Посидел, подумал, повертел головой, послушал воробьиную истерику – серьезный, грустный, сам в себе пребывающий, и улетел искать место поспокойнее.
Перед воробьями Рина уже три месяца чувствует вечную вину. С тех пор как Артурыч купил ей пневматический пистолет и потребовал пообещать, что она не будет стрелять в квартире. Рина сразу просекла, что это была скрытая взрослая капитуляция из цикла: «Делай что хочешь – только не лезь ко мне! А еще лучше: сиди в своей комнате».
Получив пистолет, Рина первым делом прострелила из нее фотографию самого Артурыча, на которой он был рядом с Мамасей. Первая пуля попала Артурычу в щеку, вторая вмяла глаз внутрь черепа, а третьей Рина нечаянно ранила Мамасю и, испугавшись, спрятала фотографию в химическую энциклопедию, куда Мамася никогда в жизни бы не заглянула.
А еще примерно через день, когда дырявить стены ей окончательно надоело, Рина взяла кусок пластилина, скатала в шарик и продержала ночь в морозилке, чтобы не прилип к стволу. Влезла на подоконник и прицелилась в воробья, прыгавшего на ветке у скворечника. Береза качалась от ветра, и воробей то исчезал из прицела, но снова в нем появлялся.
Рина испытала странный жар, всегда возникающий, когда перешагиваешь через «нельзя». Ей чудилось, она залипает в горячее, пульсирующее, подталкивающее к чему-то злое облако.
– От пластилина ничего не будет! – успокоила себя Рина и, не стараясь попасть, потянула курок.
Ствол дернулся. Рина так и не поняла, куда подевался воробей. Решила, что улетел, но все же на всякий случай спустилась вниз. Воробей лежал у корней на траве. Она искала, куда ударила его пластилиновая пуля, но так и не нашла. Просто мертвый воробей с подвернутым крылом и сгустком крови на нижней части клюва. И еще поняла по окраске, что ухлопала воробьиху.
Рина торопливо закидала ее прошлогодними листьями. Воробьихи не стало, а вместе с ней исчез и поступок. Рина постаралась выкинуть его из головы, но уже на другой день, случайно открыв форточку, услышала, как в скворечнике пищат птенцы. Уцелевший воробей-отец носился туда-сюда, но, похоже, плохо справлялся. Вечерами, отупев от собственных мельтешений, он сидел на крыше скворечника с задерганным и недоумевающим видом. Что такое «смерть жены» и «одинокий отец», он явно не понимал, но все равно ощущал какую-то неполноту и неправильность. Что-то шло не так, выходя за пределы птичьего сознания.
Шторы качнулись от сквозняка. Кто-то открыл дверь.
– Катерина! Подъем! – крикнула Мамася, заглядывая в комнату.
– Да-да! Уже! – сказала Рина бодрым голосом. – Выключите сон! Я его завтра досмотрю!
Чтобы тебе поверили, голос должен быть уверенным и, по возможности, ответственным. Но Мамасю не проведешь. Довольно и того, что раньше попадалась.
– Катерина, глаза!!!
Утренняя Мамася и Мамася вечерняя – два разных человека. Возможно, разные даже по документам. Надо будет как-нибудь проверить.
Рина открывает глаза. Мамася стоит в дверях и терпеливо ждет, облокотившись о косяк плечом. И Катериной ее называет, чтобы показать, что недовольна. Вечерняя Мамася называет дочь Риной, Триной и изредка Тюшей.
– Катерина, свесь с кровати ноги! И нечего руку на ковер ронять! Ноги, согласно словарю, это нижние парные конечности.
Рина послушно опускает на пол нижние парные конечности. Когда с ними жил папа, он решал проблему проще: просто брал ее на руки, относил на кухню и там опускал на стол. На кухонном же столе притворяться спящей тяжко, особенно когда ощущаешь под собой ложку или солонку.
– Теперь встань и сделай три шага к двери! – командует Мамася.
Вместо трех шагов Рина пытается сделать два. После двух шагов еще можно опрокинуться назад и вновь рухнуть на одеяло. А вот на три шага такой фокус уже не проделаешь. Рискуешь шарахнуться головой и испортить почти новую кровать, которую дедушка Гриша купил на свою первую зарплату.
– Три шага! – повторяет Мамася. – Нечего было вчера до двух ночи гномиков женить!!!
– Гномиков??? Это что, месть? – возмущается Рина.
Она делает еще шаг. Незримая пуповина, связывающая ее с кроватью, обрывается.
– Жду тебя завтракать! Кстати, ты муху кормила? – ехидно спрашивает Мамася.
Муха живет у Рины в трехлитровой банке. Горловина банки затянута марлей.
Рина качает головой.
– Муха страдает. Тоже хочет свободы от родительской опеки, – говорит она.
– Какая может быть свобода от родительской опеки, когда ты даже муху накормить не в состоянии? Таракана помнишь? И того угробила!!! – Мамася спокойно поворачивается и уходит.
Рина вспоминает, что до мухи у нее в той же банке проживал таракан, которому Мамася регулярно бросала размоченный хлеб, ужасно плюясь при этом и утверждая, что таракан – гадость. Рина кривит ей вслед гримасу номер восемь, которая отличается от гримасы номер семь более высоким поднятием бровей и «надувательством щек», как говорил папа.
Рина плетется в ванную и долго стоит, качаясь и размышляя, смачивать щетку перед тем, как выдавливать пасту, или так сойдет. Вариантов только два, но Рина выбирает из них минут пять. И еще десять секунд чистятся зубы.
На кухне бьется скорлупа и стреляет яичница. Рина идет на звук. Она все еще на автопилоте. Мама Ася (отсюда и Мамася) стоит у плиты и ест стоя. Она вечно утверждает, что ей некогда присесть, а на самом деле ей просто не сидится.
Брови у Мамаси красивые, густые, а вот коса уже не коса, а крысиный хвостик. Опасно, когда твоя лучшая подруга – парикмахер-самоучка, выучившая чикать по книжке и, за отсутствием практики, пока не наигравшаяся с ножницами. Рина еще помнит время, когда коса у Мамаси была такой длины и тяжести, что она привязывала к ней небольшую куклу, а Мамася даже и не замечала.
Рина подходит к маме сзади и прижимается. Волосы у них одного цвета, русые, и для какой-нибудь букашки, которая наблюдает за ними с потолка, головы наверняка сливаются в одну.
– Дай погреюсь! Ты теплая! – говорит она.
– Верно. Я ЕЩЕ теплая! – мрачно соглашается Мамася.
У нее два состояния, и оба крайние. Северный полюс и Южный. Или даже так: Северный полюс и пустыня Сахара. Одно состояние – спешки и быстрых несущихся рук. Другое – внезапного и долгого замирания. То бегает и хлопочет, а то вдруг цепенеет, глядя в стену, и тогда непонятно, о чем она думает.
Артурыча нет. Его вообще никогда нет. Он вечно колесит на новом, приятно пахнущем прогретым маслом грузовичке. Продает шампуни, лосьоны и прочую гигиену. Покупает их на фабрике под Вологдой, привозит в Москву и расталкивает по точкам. И едет куда-нибудь в Казань за ушными палочками или жидким мылом.
Артурыч похож на моржа. Такой же усатый, толстый, медлительный. За рулем никогда не засыпает. И вообще непонятно, когда спит. Днем едет, ночью едет. Рина подозревает, что Артурыч так долго обходится без сна оттого, что никогда не просыпается окончательно. Он всегда в полуспячке или в полубодрствовании.
Лицо у Артурыча такое широкое, что очки, которые он носит, выгибаются дужками наружу. Мамася называет его физиономию «мордень». Делает Артурыч все неспешно, а говорит так медленно, что все теряют терпение и начинают угадывать окончания слов.
Добрый Артурыч или злой, Рина до сих пор не разобралась. Но одно она знает наверняка: он не папа. Папа нервный, папа быстрый, папа стремительный. Выпаливает десять слов в секунду. За одну минуту может схватить пять предметов и четыре из них уронить. Артурыч же за это время едва поднесет руку к носу. Но, правда, ничего не уронит. Это да. Тут не поспоришь.
Вообще Артурыч – нечто диаметрально противоположное папе. Похоже, Мамася, когда искала его, выбирала не живого человека, а «антипапу». Просто как набор качеств из конструктора «Сделай сам!».
Сейчас у них все хорошо. Мир. В первый год было хуже. Рина и Мамася не разговаривали порой по три дня. Иногда бывало, что обе сидели на кухне, повернувшись друг к другу спиной и, в нетерпении прорывая ручкой бумагу, писали. Затем одна, не глядя, бросала бумажку другой. Та читала, фыркала и тоже писала: