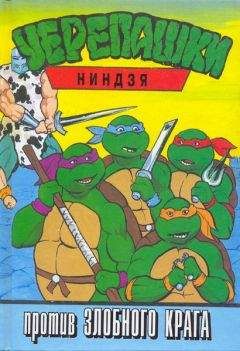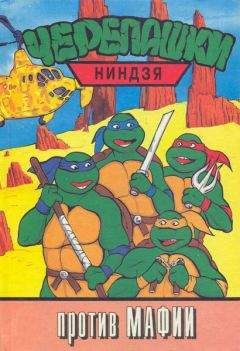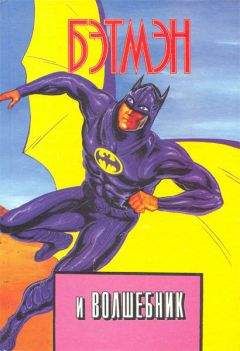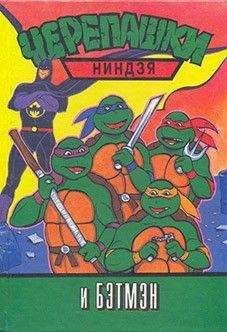без автора - Черепашки-ниндзя и Баркулаб фон Гарт
Он плыл по ним с удивительной легкостью, без всяких усилий. Вода свободно скользила по его спине – прохладная, блестящая, ласкающая даже. Вокруг не было ничего, кроме сумерек, сгущавшихся где-то вдали. И все же его слабые глаза напряженно смотрели вперед, он был начеку. Он не знал, чего страшился, но страх переполнял все его существо – от пустого желудка до кончиков тонких желтых пальцев. Он весь был – плывущий страх и голод. Да, голод, неудовлетворенность и беспомощность.
И вдруг он увидел рыбу. Огромную, неизмеримую взглядом. Она медленно плыла в тихой, упругой воде, лупоглазая, спокойная, наверное, не очень голодная. Потом лениво разинула рот, и он на мгновение увидел белесую пасть, бледные розовые жабры. Верно, заглотнула что-то невидимое. Ощутив это всем своим напряженным существом, он быстро нырнул, вжался в холодную скользкую тину. Здесь он почувствовал себя увереннее – он был так же невидим, как вода, которая по-прежнему ласково струилась над ним. Замерев, он следил, как сверху проплывает твердый белый живот. Потом живот исчез, оставив за собой лишь слабые толчки воды, волнуемой мерными движениями рыбьего хвоста.
Но он все лежал, не шевелясь, в мягкой тине. Зрение у него было гораздо слабее остальных органов. Вот и сейчас он словно бы кожей ощутил, как из черных глубин выплывают змеи. И только потом увидел их – они плыли, сплетаясь, неторопливыми волнообразными движениями, гигантские змеи, каждая намного больше той рыбы. Он уже совсем ясно видел их желтые злые глаза, но знал, что змеи его не замечают, так он слился с дном. Змей он боялся меньше, чем рыбу, даже бывало в приступе отчаянной смелости плыл рядом, не упуская их, впрочем, из виду. Змеи тоже его видели, но никогда не нападали – знали, что он плавает быстрее и может внезапно и резко менять направление.
Он снова поплыл вперед, предусмотрительно держась над самым дном, подальше от прозрачного массива вод, простиравшегося наверху. Наверное, сам того не замечая, он все-таки поел, потому что почувствовал приятное ощущение сытости.
И тут на него напала другая рыба, не похожая на первую. Очень острая морда, пасть, полная зубов. Рыба чуть не проглотила его, но он успел увернуться, и та промчалась мимо, больно задев его острым плавником. Он знал, что рыба попытается повторить нападение – еще стремительней, еще яростней. Сильная и ловкая, с хорошим зрением, она могла его разглядеть даже на дне. Он уже чувствовал ее разинутую пасть и с отчаянной быстротой ринулся наверх, поближе к свету, к спасительной границе с другим миром. Что-то ослепительно ударило его по глазам, под ним была грубая земная твердь. И вдруг все кончилось…
Это был сон. Доктор Круз не сомневался. Он лежал на спине и смотрел на румянец неба, про хладный, прозрачный, почти осязаемый, словно вода, и как вода, казалось, готовый хлынуть прямо на него. Только что пережитый страх все еще струился в его крови, отчетливо бился в висках. Никогда еще не было у него такого трепетного, всполошенного пульса. Казалось, сердце вообще больше никогда не вернется к своему невозмутимо-равномерному ритму.
Доктор Круз взглянул на соседнюю кровать. Рядом спал Джон Смитли. Спал, повернувшись к нему спиной, спокойно и ровно дыша. Наверное, и сны у него такие – спокойные. Уж его-то вряд ли преследуют в темных глубинах прожорливые рыбы.
Часа через два доктор Круз и Джон Смитли завтракали на верхней террасе ресторана. Они были одни. Молодые люди, так похожие друг на друга и одновременно напоминающие самураев, заказали лимонный сок, чай, яичницу. Дожидаясь, пока подадут завтрак, поглядывали на море, чуть вздымавшееся над желтой полоской пляжа. День обещал быть жарким, безветренным, на белесой эмали неба не было ни единого облачка.
Внезапно доктор Круз прервал молчание:
– Теперь я представляю, что такое страх.
– Что же? – вскинул на него глаза Джон.
– Как тебе сказать? – хмуро проговорил доктор Круз. – Знаю только, это нечто позорное и отвратительное.
– Пожалуй, ты прав, – задумчиво произнес Джон. – Страх – главное, что в нас есть. Восемьдесят пять процентов нашего тела составляет вода. Девяносто процентов человеческой души – страх. Тотальный страх перед всем, что стоит на нашем пути – от лифта до начальства.
Доктор Круз подавленно молчал.
– И что же такое, по-твоему, страх? Инстинкт или чувство? – спросил он, наконец.
– Дай сообразить… Во всяком случае разум обычно его поощряет. Не говоря уже о воображении. Не зря же храбреца обычно называют безрассудным.
– Хочешь сказать, что человек трусливей животного?
– Конечно! – Джон Смитли даже удивился. – Остановится на дороге какая-нибудь корова, и плевать ей на твою ревущую машину.
– Тогда почему я не знаю страха?
– Ты же сказал, что знаешь!
– То было во сне.
И доктору Крузу пришлось рассказать Джону Смитли о своем странном сновидении. Он и не ожидал, что произведет на приятеля такое сильное впечатление.
Джон Смитли слушал, не шевелясь, затаив дыхание.
Когда доктор Круз, наконец, умолк, за столом воцарилось молчание.
– Ну, что скажешь? – не выдержал Круз.
– Может, тебе покажется странным, но я думаю, ты увидел кусочек картины, сохранившейся в твоей генетической памяти, в какой-нибудь клеточке мозга, словно фотопленка в хорошей кассете. Сместились какие-то пласты, и она вклинилась в механизм сна. Я бы даже не сказал, что это сон. Фрейд, вероятно, в чем-то прав: сновидения – штука далеко не случайная. Просто мы их слишком свободно, даже произвольно толкуем. Но твой сон образно очень точен – никакой деформации…
– Никакой? А рыбы? А змеи? Даже палеонтология не знает таких громадных животных. Джон снисходительно улыбнулся.
– Не они были огромны, – сказал он. – Ты – мал.
Это было так просто и убедительно, что Круз буквально разинул рот.
– А тебе никогда не снилось ничего подобного? Происторического, я имею в виду.
– Не знаю. Может быть. Снилось мне, например, что я летаю. А ведь это еще более странно. В своей бесконечной эволюции человек вряд ли когда-нибудь был птицей.
– Тогда?…
– Не знаю. Но, может, какое-нибудь крохотное земноводное, скажем, в когтях у птицы. Если птица его выронила.
– Да, понимаю, – кивнул Круз.
– Послушай, ты согласился бы увидеть этот сон еще раз? – неожиданно спросил Джон Смитли. – Я хочу сказать, этот страшный сон. Или что-нибудь более страшное…
– Да, конечно!
Окончить этот разговор им не удалось. На террасе появился Том Каст в мохнатом розовом халате, который был ему явно не к лицу. Худые ключицы, жирная, отвисшая, как у старухи, грудь, животик, вздымавшийся над плавками, белый и гладкий, как чайная чашка.
Разумеется, маститому ученому и в голову не приходило, насколько комично он выглядел. Он с достоинством вышел на середину террасы и объявил:
– Иду купаться! Говорят, утреннее купание – полезнее всего! И правда, через некоторое время они нашли его на пляже. Войдя по колено в прозрачную зеленую воду, философ глядел вдаль пустыми глазами. Плавки его были, конечно же, совершенно сухими, но круглый животик беспокойно напрягся.
– Очень холодная вода, – виновато сказал он. – Здесь всегда так?
И, повернувшись, понес свою плоскую спину к ближайшему зонтику.
Приятели искупались и присоединились к нему. Свежесть, исходившая от их влажных тел, заставляла Тома Каста прямо-таки ежиться. Философ был явно не в духе. Некоторое время они лежали молча, со всех сторон окруженные отдыхающими.
Совсем близко возвышались пышные, словно подушки, тела двух женщин. Философ с отвращением взглянул на них и мрачно сказал:
– Не знаю, почему, но голое тело вызывает у меня мизантропию.
– Даже женское?
– Особенно женское. Извините, молодые господа, но это не пляж, а братская сексуальная могила…
Первые дни прошли спокойно. Вероятно, чтобы не подвергать себя сексуальным разочарованиям, Том Каст вообще перестал ходить к морю. Лишь иногда приятели находили его на лечебном пляже, где он сидел, скрючившись, как старая больная дворняга. Похоже, женское племя окончательно отвратило его, отчего, вероятно, он и выглядел таким грустным и чуждым всему окружающему.
Не обращая никакого внимания на разлегшихся рядом немок-парикмахерш с тяжелыми, оплетенными синими венами ногами, с расплывшимися грудями, Том Каст работал, желтым кривым ногтем отмечая в книге отдельные абзацы и строки.
Порой он сердито бормотал что-то. Однажды он выругался так громко, что у парикмахерш вывалилось из рук вязанье. Иногда он спорил со своими молодыми спутниками – главным образом, понося человечество за тупую беззаботность и близорукость, за чудовищную его жадность, жертвой которой, по его словам, могут стать даже горы, словно они сложены не из камня, а из жирных окороков и бифштексов.
– Сожрет и не поперхнется, – с ненавистью бормотал он. – До последней косточки. Нет на свете животного более прожорливого, чем человек. Разве что солитер. Но и тому лучше всего живется в человеческих кишках.