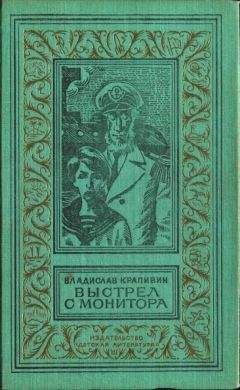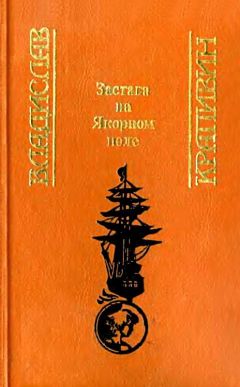Владислав Крапивин - Гуси-гуси, га-га-га…
— Смотри, что получилось. Если латинскими буквами, то…
— Коок, — сказал Корнелий.
— Это пишется «Коок», а читается «Кук». По-английски… Правда, там на конце буква «ка» другая…
— Был такой мореплаватель, да?
— Был… — Альбин смотрел в сторону озера. На горизонт. — А потом его именем назвали суперкрейсер. Космический… «Джеймс Кук».
— Их же запретили строить!
— Ну да… Но сперва-то строили. Тогда и назвали… Мой папа там на строительстве работал. В группе навигационных систем… Ты думаешь, он всегда пивоваром был? — Горькая нотка проскользнула у Альбина.
Корнелий иногда встречал отца Альбина, инженера Ксото, который работал на местном пивоваренном заводе, налаживал там какие-то автоматы. Старший Ксото был молчаливый, сутулый, седоватый… Вот откуда его угрюмость! Сперва строил космолеты, а теперь…
— Хальк, а почему их запретили?
— Говорят, мешают стабильности. Многое ведь позапрещали…
— И их совсем разломали?
— Нет, огородили верфь, сказали: надо отложить до удобного времени…
— А! Значит, зонг?
Альбин кивнул.
Что такое «зонг», знали все мальчишки. «Законсервированные объекты научных групп». Зонги встречались повсюду: обнесенные забором с проволокой площадки и целые поля. За оградами прятались недостроенные лаборатории, буровые установки, ненужные теперь испытательные полигоны и прочие бесполезные объекты, из-за которых наука чуть не двинулась по ошибочному пути. Хорошо, что люди вовремя спохватились, им подсказала верную дорогу Главная Машина: цель общества — благополучие каждого человека, а не бесполезное рысканье среди отвлеченных проблем и «загадок Вселенной».
Но мальчишек мало занимала расшифровка этого названия. Само по себе оно — «зонг»! — звучало загадочно, как слова из фильмов о старинных путешествиях и тайнах: «Нью-Тесонг, Гонконг, бизон, муссон, бумеранг…» Ребячьи легенды разносили слухи о чудесах, которые происходят за глухими заборами зонгов. Там, говорят, можно было увидеть что угодно (даже планеты величиною с яблоко, летающие вокруг забытого фонаря) и встретить кого угодно: привидения, одичалых роботов, космических пришельцев.
Проникновение в зонг считалось одним из самых тяжких преступлений. За это — самое меньшее — выгоняли из школы. Но магнетизм тайны — штука посильнее страха. К тому же охранялись зонги так себе. И с некоторых пор для всякого пацана от девяти лет и старше побывать внутри ограды зонга считалось мерой высокой доблести.
…Был свой, местный зонг и недалеко от южной окраины Руты. Совсем близко от дачного поселка. Юркий Росик Натальский, блестя глазами-смородинами, рассказывал, что забор огораживает скважину, которую просверлили чуть не до центра Земли, а потом оставили. Если заглянуть в круглый бездонный колодец, можно увидеть звезды. Не наши, не знакомые, а других миров. Почему так, никто не знает. Из-за того, наверно, и прекратили бурить, испугались. А еще, если крикнуть в колодец, отзываются голоса. Не эхо, а настоящие, живые…
Без ночной вылазки не могло, конечно, завершиться то дачное лето. К такому приключению толкала вся логика мальчишечьей жизни. Спорили, обсуждали и наконец сговорились. («Да там и бояться-то нечего! В прошлом году Крона и Антошка Рыжий лазили — говорят, запросто!» — «Сторож только у входа, а в заборе две щели и подкоп, я покажу…» — «Если застукают — драпать в разные стороны и выбираться поодиночке. В темноте шиш кого поймают!»)
Тощий Эрик Спица, что был в компании вроде старшего (не как Пальчик, а по справедливости и с головой), подошел к делу серьезнее. Сказал, что надо провести разведку. Надо взять фонарики, но светить ими только под самые ноги и сквозь тонкий лоскуток. Поесть побольше сахару, чтобы лучше видеть в темноте. В зонге держаться друг за дружкой, не шептаться, убегать (если придется) врассыпную, но каждому заранее знать путь отступления. А уж если не повезет кому, сцапают — говорить, что был один, про других молчать каменно. Насчет этого даже поклялись — сцепили руки над маленьким костром и сосчитали до десяти, хотя припекало почти нестерпимо.
И Корнелий, конечно, поклялся. И готовился к вылазке так же, как другие. Но в душе у него нарастало, нарастало предчувствие беды. Изнуряющее, лишающее сил.
Это вернулся страх, с которым Корнелий жил все школьные годы. Природная подлая боязливость, которая сделала его в классе мулей.
Здесь, этим летом, Корнелию казалось, что он стал другим. Не хуже остальных лазил на деревья, нырял с мостков, смело совался в общие споры, перестал ежеминутно ждать насмешек. Спасибо Альбину, он ввел его в ребячью компанию как равного. Хальке ребята верили, он был, можно сказать, любимцем. Видно, здешние пацаны разглядели его истинную суть. Она ведь не в нахрапистости и не в кулаках, которые только и уважались Пальчиком и его подлипалами…
Халька был — настоящий. Он был на все готов ради других. Он горячее остальных поддержал планы вылазки и готовился к ней весело и бесстрашно. И Корнелий делал вид, что готовится с той же радостью. Но внутри у него копилась злая досада на Альбина. Дурак!.. А если поймают? Не понимает, что ли, чем это грозит? Ну, дома врежут — это еще можно вытерпеть. А если — колония?
Чем дальше, тем яснее Корнелий представлял, как это будет. Крики, свистки, крепкие пальцы на воротнике (кричи, плачь, вырывайся — без толку!), кабинет Комиссии попечителей детства, белый лист приговора, вылезающий из щели черной Машины. Белые одноэтажные бараки исправительной школы (тогда еще были такие).
Они, мальчишки, просто не понимают, чем рискуют. И Альбин вроде бы умный, а тоже… Им — все игрушки! А Корнелий-то видит, чем это кончится! И заранее — страх до тошноты, до слабости в ногах.
Но ведь не объяснишь никому! Если поймут, что боишься, скажут: «Ну и сиди дома под кроватью, мамочкин герой!» И Альбин. Он, может, так и не скажет. Он, может, и пожалеет даже. Но прежним Халькой он для Корнелия больше не будет. И это, пожалуй, не менее страшно, чем колония.
Впрочем, Корнелий боялся уже не только результатов. Он боялся самой вылазки, того расслабляющего ужаса, который овладеет им (Корнелий знал!) перед забором зонга. Скорее всего уже там, у лазейки, он от боязни прижмется к земле и не двинется дальше.
Святые Хранители, что же делать-то?
Двое суток жил Корнелий в липком, расслабляющем страхе. И с трудом скрывал этот страх. Наступил день приключения. Утром Корнелий вышел в сад. У крыльца валялась деревянная рейка с торчащим гвоздем. Корнелий зажмурился…
…Потом он говорил себе, что на это нужна была тоже смелость. Пускай дезертирская, пускай такая смелость, с которой трусливый солдат отрубает себе палец, чтобы не идти в бой, но все-таки… Попробуйте вот так, с размаху, ударить босой ногой, чтобы гвоздь распорол ступню…
— А-а-а!.. Ма-ма!.. Ну кто здесь раскидал эти проклятые палки!
Он корчился на крыльце, обливаясь слезами боли и облегчения. Он ненавидел сейчас ребят, Альбина, себя и белый свет. И все же радовался, что ему так больно. В этом чудилось Корнелию искупление.
Под вечер, ковыляя с самодельным костылем, он пришел во двор к Эрику. С белой толстой муфтой на ступне. Жалобно кряхтя, рассказал про случайный злополучный гвоздь, про прививки, про то, как «режет, будто пилой, до сих пор».
Все его от души пожалели. В кои веки ожидается настоящее приключение, и тут такое невезенье у человека.
Альбин тихо погладил его по плечу. Сказал чуть виновато:
— Ничего, ты не горюй так сильно. Я тебе завтра все подробно расскажу. — Другие мальчишки деликатно отвернулись, а Халька отворачиваться не стал, когда у Корнелия потекло из глаз. — Ну брось, будут ведь еще в жизни всякие интересные дела…
Корнелий плакал, не скрываясь. Что это были за слезы? От стыда? От запоздалого сожаленья, что не попадет в таинственный зонг? От жалости к себе — из-за того, что вот такой он скверный и трусливый? От сознания своей ничтожности перед Альбином? От злости на всех и на всё? Черт его знает.
Назавтра нога распухла, и Корнелия оставили в постели. Перед обедом пришел Альбин. Поцарапанный, со сбитыми локтями. Серьезный. Рассказал, что сторожа заметили ребят. Может, какая-то сигнализация в зонге была. Кто-то закричал, засвистел в темноте, замахал фонарями. Мальчишки, как договаривались, — во все стороны! И никто, слава Хранителям, не попался!
Корнелий слушал, млея от ужаса. И от тайной радости («Я же предвидел! Значит, не зря я…»). Он поморщился, чтобы напомнить, как болит нога, и спросил с хмурой сосредоточенностью:
— Но это точно, что никого не сцапали?
— Конечно! Мы потом все у Эрика собрались. Я самый последний пришел.
— Почему?
Альбин (он сидел на табурете у кровати) потрогал локоть, исподлобья глянул на Корнелия и признался:
— А я не сразу убежал. Я сперва в кустах замер, дождался тишины.
— Это ты правильно. Потом легче ускользнуть, да?
— Да я не для того, чтобы ускользнуть. — Альбин стесненно вздохнул. — Я хотел все же заглянуть в колодец.