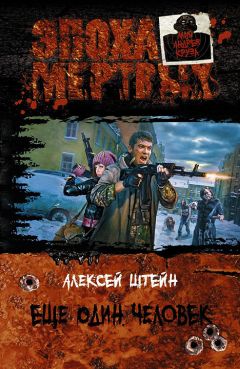Розмари Уэллс - На синей комете
Трамвай доехал до центра Кейро минут за двадцать. Я вышел на пересечении Центральной улицы с Вашингтон-авеню и направился к мощным, отделанным бронзой дверям банка. Облицованное гранитом здание имело десять греческих колонн с желобками и капителями; колонны поддерживали треугольный фронтон, где на мраморной плите была выбита надпись ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ — чтобы жители Кейро и весь остальной мир знали, что здесь находится банк.
Вообще банк работал до трёх, но около запертых двойных дверей имелся звонок, и я нажал кнопку. Поджидая сторожа, я переминался с ноги на ногу и глядел вправо — на тёмные окна. Вдруг внутри вспыхнула праздничная иллюминация, и всё, что было за стеклом, пришло в движение: двадцать поездов разом забегали среди заснеженного рождественского пейзажа. «Синяя комета»! Моя «Синяя комета» со свистом промчалась мимо меня на всех парах! Мистер Петтишанкс запустил её вдоль озера, по Южнобережной линии.
Не успел я осознать, что нашёл наконец свои поезда, как сторож открыл дверь банка. И широко улыбнулся.
— Мистер Эплгейт! — воскликнул я.
Глава 5
— Оскар! — сказала тётя Кармен вечером, когда мы помолились и почти приступили к ужину. — Можешь больше не переписывать Киплинга. Наказание снято. — Она наградила меня ледяной улыбкой.
— Спасибо, мэм. У меня высвободится много времени. — Я знал, что пошутил в папином стиле, да и улыбка моя сейчас походила на папину. До ушей.
— Ты спас наши задницы, Оскар, — пропищала Уилла-Сью.
Тётя Кармен, нахмурившись, посмотрела на Уиллу-Сью и приложила палец к губам.
— Мама, ты же сама сказала: «Оскар Огилви-младший сегодня спас наши задницы»! В автобусе сказала. Я своими ушами слышала!
— Оскар, — произнесла тётя Кармен, — ты сегодня замечательно выступил.
— Спасибо, мэм. Уж этот стих я точно помню наизусть.
— Кстати, Оскар, ты знаешь, что каждый год в День независимости, четвёртого июля, у нас в городе проводится конкурс среди пятиклассников? Участвуют по одному ребёнку из каждой школы. Надо прочитать речь какого-нибудь крупного исторического деятеля. Если с тобой поработать, ты вполне сможешь пройти отборочный тур в школе. Пожалуй, надо подготовить тебе программу.
— Для мамы это очень полезно, — объяснила Уилла-Сью. — Если ты выступишь четвёртого июля перед всем городом, мы получим много новых учеников и денег. Ведь все будут знать, что ты — мамин племянник! Главное, чтобы ты слова не перепутал!
— Тише, Уилла-Сью, — сказала тётя Кармен, но я уже раскусил её коварный план.
— Целую программу? — Я даже не донёс до рта очередную ложку бобовой запеканки с треской.
Про конкурс в День независимости я знал. Мы с папой никогда не пропускали общегородской праздник с пикником: бродили от одного духового оркестра к другому, смотрели парад. Но когда на сцену выходил какой-нибудь тугощёкий очкастый отличник, готовясь произнести все четырнадцать тезисов Вудро Вильсона об условиях мира по окончании Великой войны, папа говорил: «Пошли-ка отсюда, Оскар. А то он сейчас тоску нагонит!»
Однако тётя Кармен прочитать мои мысли не могла. Она развивала свою идею:
— Так… Что бы для тебя выбрать? Можно, конечно, речь Теодора Рузвельта про человека «на арене борьбы». Он произнёс её в Сорбонне в тысяча девятьсот десятом году. Или прощальную речь Джорджа Вашингтона. А как ты относишься к Гёттисбергской речи Авраама Линкольна? Это очень сильная речь!
Кровь отлила у меня от лица и ушла в пятки — вместе с душой и способностью соображать.
— Может, я их сначала почитаю? — наконец пролепетал я.
В тот вечер на тумбочке возле моей кровати появилась тёткина книжка — «Знаменитые речи знаменитостей».
И мы с тётей Кармен каким-то образом, без обсуждений, почти без слов, пришли к соглашению: она разрешит мне днём, после школы, навещать мои поезда в Первом национальном банке. А я к четвёртому июля выучу Гёттисбергскую речь Авраама Линкольна.
* * *— Приветствую, мой друг! — сказал мистер Эплгейт, распахивая передо мной огромные пятиметровые двери банка с тяжёлым бронзовым орнаментом.
Чтобы впустить меня, он предварительно отключал сигнализацию. Когда я входил, мы задвигали засов, запирались наглухо и снова включали сигнализацию — мистер Эплгейт давно показал мне, как это делается.
— Не дай бог, чтоб она затрезвонила, Оскар, — говорил он. — Сюда тут же хлынут толпы полицейских, завоют сирены, и старик Петтишанкс от нас мокрого места не оставит!
Работая ночным сторожем, мистер Эплгейт накопил на термос. Туда он наливал горячий шоколад и брал с собой на дежурство. Мы пили шоколад каждый день, а потом запускали поезда. Перед огромным, занимавшим весь вестибюль макетом стоял маленький автомат со щелью для монет, украшенный зелёными ветками падуба и рождественскими веночками с красными лентами. На автомате бросалась в глаза надпись:
Дети! Учитесь беречь каждый цент! Копите деньги!
Вступайте в Рождественский клуб
Первого национального банка!
Получайте дайм — десять центов
за каждый вложенный доллар!
За один дайм вы сможете управлять поездами
целых пять минут!
Мне не нужно было вступать в этот клуб. Мистер Эплгейт умел включать реле бесплатно, опуская в щель одну и ту же монетку на шнурке. Эту монетку я повесил себе на грудь, рядом с медальоном с изображением моего ангела-хранителя.
«Синюю комету» мистер Петтишанкс поместил на Южнобережную линию, так что поезд ходил теперь по кольцу: от Южной оконечности озера Мичиган до Чикаго. Я смотрел на него, не сводя глаз, круг за кругом. Разумеется, это был именно мой поезд. На паровозе сбоку — знакомая царапинка, которую папа тщательно затёр наждаком, а потом покрасил синей эмалевой краской. В заднем, экскурсионном вагоне — два сиденья, которые папа развернул специально для нас, чтобы мы любовались Атлантическим океаном, когда поедем по побережью. Стёкла во всех вагончиках папа всегда протирал замшевой тряпочкой, и они сияли до сих пор. Поблёскивали и металлические прутья по бокам паровоза.
Конечно, мистер Петтишанкс заменил папин самодельный макет покупным — с фирменными туннелями, горами и станциями, — одним из тех, какие выпускали компания «Лайонел» и другие изготовители игрушечных поездов. В восточной части макета находился нью-йоркский Центральный вокзал. Если заглянуть сквозь арочные плексигласовые окна, можно было разглядеть крошечные зодиакальные созвездия, мерцающие на высоких потолках, и десятки оловянных фигурок: люди спешили по своим делам. На этом вокзале сходились сразу десять путей. Ещё десять вели на вокзал Дирборн в Чикаго. Чуть поодаль «текла» река Миссисипи с голубым пупырчатым покрытием — в ней, словно в настоящей воде, отражались огоньки бегущих поездов. На западе темнели Скалистые горы, а их белые пики искрились от мелких крупинок слюды, из которой был сделан искусственный снег. К одной из гор прилепился вокзал города Денвер — точно звезда на ёлке, над всеми остальными игрушками. Скалистые горы на этом макете были метра полтора высотой.
А за всеми горами и равнинами лежала земля моего сердца, Калифорния. На макете у Петтишанкса вся она была в крошечных апельсиновых садах: деревья — из того же материала, что пенковые трубки, а кроны — из клочковатой, выкрашенной под зелень ваты. Сады «росли» на холмах и в долинах, окружавших конечную, крайнюю западную станцию всего макета — лос-анджелесский вокзал, воспроизведенный в точности, до мельчайших деталей. Я никогда не видел этот вокзал в каталоге фирмы «Лайонел». Должно быть, его производит другая фирма, а может, даже какой-нибудь искусный умелец, на заказ. Если так, значит, он дорогущий. Стоит, наверно, целое состояние.
Вокруг вокзала змеились тротуары, выложенные из крошечных жёлтых кирпичиков — очень ровно, один к одному. У главного входа на краю тротуара виднелась надпись ТАКСИ, а рядом пристроились три миниатюрные машины с шашечками. У каждого такси имелось на крыше маленькое табло, величиной с жвачку-подушечку: «свободен/занят». Когда мистер Эплгейт включал освещение всего макета, табло начинали светиться зелёным светом, зазывая пассажиров.
— Старик Петтишанкс обзавёлся всем, что есть в каталоге «Лайонел», — сказал однажды мистер Эплгейт. — Он любит поезда. Приходит каждое утро за час до открытия банка, пьёт кофе, курит свои сигары и любуется поездами. Не знаю, что он будет делать, когда закончатся рождественские праздники, право слово, не знаю.
Я очень удивился:
— А я думал, он забрал поезда для сына. Для Сирила.
— Для Сирила?! — Мистер Эплгейт расхохотался. — Старик клянётся, что не подпустит своего сынка к поездам на пушечный выстрел! Ни за что на свете! Сирил тут же устроит крушение, и пяти минут не пройдёт! Перетопчет газоны, переломает семафоры и разобьёт вокзальное окно. Сирил — обалдуй.