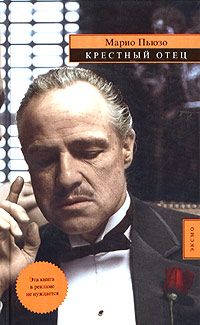Марио Пьюзо - Крестный отец (перевод М.Кан)
Но раньше, нежели дон Корлеоне успел что-либо предпринять, Люка Брази в тюремной камере попытался покончить с собой, раскроив себе горло осколком стекла. Его перевели в тюремный лазарет, а к тому времени, как он поправился, дон Корлеоне все уже уладил. Полиции, за неимением прямых улик, нечего было предъявить суду, и Люку Брази отпустили на свободу.
Дон Корлеоне заверил Филумену, что ей, как со стороны Люки Брази, так и со стороны полиции, бояться нечего, и все-таки она лишилась покоя. Нервы пришли в негодность, она не могла больше заниматься своей работой. В конце концов уговорила мужа продать бакалейную лавку и возвратиться в Италию. Муж был хороший человек, он уже знал обо всем от жены и все понимал. Хороший, но слабохарактерный, и по приезде в Италию растранжирил состояние, нажитое ими в Америке тяжелым трудом. Вот как получилось, что после его смерти она пошла в прислуги. Тем Филумена и завершила свой рассказ. А напоследок, пропустив еще стаканчик вина, прибавила, обращаясь к Майклу:
― Для меня имя вашего отца благословенно. Он всегда присылал мне денег, стоило только попросить, и он спас меня от Брази. Передайте, я каждый вечер молюсь о спасении его души, так что он может не страшиться смерти.
Когда она ушла, Майкл спросил дона Томмазино:
― Правду она рассказала?
И capo-mafioso кивнул в ответ головой.
Неудивительно, подумалось Майклу, что не нашлось охотников рассказать ему эту историю. Да, ничего себе история. Ничего себе Люка.
Наутро Майклу захотелось обсудить с доном Томмазино подробности услышанного, но оказалось, что дона Томмазино через посыльного срочно вызвали в Палермо. К вечеру он вернулся и опять отозвал Майкла в сторону. Из Америки получено известие, сказал он. Известие, которое ему горько сообщать. Убит Сантино Корлеоне.
ГЛАВА 24
Сицилийское раннее солнце заливало спальню лимонно-желтым светом. Майкл проснулся, ощущая горячим от сна плечом шелковистое прикосновение женской кожи, и нагнулся над Аполлонией, будя ее поцелуями. Они предались любви, и после стольких месяцев безраздельного обладания он все равно не мог не дивиться заново ее красоте и ее пылкости.
Потом она встала и пошла в конец коридора, где находилась ванная, ― мыться и одеваться. Майкл, все еще лежа, потянулся, подставляя голое тело нежарким утренним лучам, и закурил. Сегодня было их последнее утро в этом доме, на этой вилле. Дон Томмазино переправлял его в другое место ― городок на южном побережье Сицилии. Аполлонии, на первом месяце беременности, хотелось сперва недели две провести у родителей, а уж оттуда приехать к нему, в это новое убежище.
Накануне вечером, после того как Аполлония ушла спать, дон Томмазино долго еще сидел с Майклом в саду. Он выглядел озабоченным и усталым, признался, что тревожится за безопасность Майкла.
― Из-за свадьбы ты оказался на виду, ― говорил он. ― Удивительно, как твой отец не подумал, что тебе необходимо найти другое укрытие. Тем более у меня из-за этой шантрапы палермской своих болячек хватает. Предложил людям договориться честь по чести, оросить им клюв сверх всяких заслуг с их стороны ― так нет, им все, мерзавцам, подавай. Я что-то не пойму их толком. Пробуют пакостить по мелочам, но меня голыми руками не возьмешь. Я им не мальчик, чтобы так дешево меня ставить ― что же они, не знают? То-то вот и беда с нынешней молодежью, при всех ее хваленых способностях. Рассудить не умеют, разобраться, и требуют всю воду из колодца одним только себе.
Дон Томмазино прибавил, что пастухи, Фабрицио и Кало, будут сопровождать Майкла на «Альфа-Ромео» в качестве телохранителей. А он с ним попрощается сейчас, так как дела опять призывают его в Палермо и он отправится туда на заре. Доктору Тазе говорить об отъезде не нужно, ― старый греховодник закатится сегодня развлекаться в Палермо и может что-нибудь сболтнуть невзначай.
Майкл и сам видел, что дела у дона Томмазино плохи. По ночам за оградой виллы несла караул вооруженная охрана, в доме постоянно находилось несколько верных дону пастухов с лупарами. Сам дон Томмазино последнее время не расставался с оружием, нигде не появлялся без личного телохранителя...
Утреннее солнце уже палило нещадно. Майкл погасил окурок, натянул рабочие штаны и рубашку, нахлобучил на голову кепку, в каких большей частью ходят на Сицилии мужчины. Босиком подошел к окну спальни и выглянул наружу: внизу, развалясь на плетеном стуле, сидел Фабрицио и причесывался, лениво проводя гребенкой по густой гриве черных волос; рядом, на плетеном столике, лежала небрежно брошенная лупара. Майкл свистнул, и Фабрицио поднял голову.
― Подавай машину! ― крикнул ему Майкл. ― Через пять минут выезжаем. Где Кало?
Фабрицио встал. Расстегнутая на груди рубаха обнажала красно-синие очертания татуировки.
― Кофе на кухне пьет, ― отозвался он. ― А супруга тоже поедет с нами?
Майкл прищурился. Что-то Фабрицио с недавних пор слишком усердно провожает глазами Аполлонию. Не то чтобы он когда-нибудь посмел заигрывать с женой друга своего дона ― такое на Сицилии позволит себе лишь тот, кому жизнь недорога, ― но все же... Майкл ответил холодно:
― Нет, она задержится на несколько дней, сначала погостит у родителей.
Он посмотрел, как Фабрицио торопливыми шагами направляется к каменной сторожке, которая служила гаражом для «Альфа-Ромео».
Потом пошел умываться. Аполлонии не было видно ― должно быть, спустилась на кухню приготовить ему на прощанье завтрак собственными руками и тем умерить чувство вины, что ей перед отъездом в такую даль, на другой конец Сицилии, захотелось еще раз побывать в родной семье. После чего дон Томмазино переправит ее в то место, где будет находиться Майкл.
Внизу, на кухне, старуха Филумена принесла ему кофе и, смущаясь, пожелала доброго пути.
― Я передам от вас привет отцу, ― сказал ей Майкл, и она закивала головой.
Вошел Кало.
― Машина подана, я отнесу ваш чемодан?
― Нет, я сам, ― сказал Майкл. ― А где Аполла?
Бесстрастное лицо Кало расплылось в доброй улыбке.
― Сидит в машине за рулем и мечтает нажать на газ. В глаза Америки не видела, а уж заделалась американкой.
Для сицилийской крестьянки сесть за руль автомашины было делом неслыханным. Но Майкл изредка давал Аполлонии поводить «Альфа-Ромео», не выезжая за ограду имения, и непременно садился рядом, так как она иной раз, желая нажать на тормоза, вполне могла вместо этого прибавить газу.
Майкл сказал:
― Ступай найди Фабрицио, и ждите меня в машине.
Он вышел из кухни и взбежал по лестнице наверх. Чемодан, уложенный с вечера, стоял в спальне. Перед тем как его взять, Майкл снова глянул в окно: машину вывели, но поставили не у кухонного крыльца, а у портика, у парадного входа. Аполлония сидела, положив руки на баранку, словно девочка, которая забралась в автомобиль поиграть. Кало ставил на заднее сиденье корзинку с едой на дорогу. И тут Майкл заметил с раздражением, что Фабрицио, которому, видимо, что-то понадобилось сделать в последний момент, исчезает за воротами. О чем он раньше думал, черт бы его побрал? Фабрицио оглянулся через плечо ― как-то воровато оглянулся. Приструнить надо будет пастушка. Майкл пошел вниз, решив, что выйдет наружу через кухню и там уже окончательно простится с Филуменой.
― А доктор Таза что, все спит? ― спросил он ее.
У глаз Филумены собрались лукавые морщинки.
― Старый петух зарю не возвестит. Доктор вчера вечером отлучался в Палермо.
Майкл хохотнул. Он вынес чемодан на кухонное крыльцо, и жаркое утро, даже сквозь вечно забитый нос, обдало его запахом цветущих лимонов. Аполлония помахала ему, он понял, что она хочет сама подогнать машину к крыльцу ― до него было шагов десять, не больше, ― и просит его оставаться на месте. Кало, широко ухмыляясь, стоял там же рядом, с лупарой в руке. Фабрицио все еще отсутствовал. В этот миг из незначащих мелочей в подсознании Майкла сложилась четкая картина ― все разом сошлось.
― Нет! ― крикнул он Аполлонии. ― Не надо!
Но его крик потонул в грохоте мощного взрыва: Аполлония уже включила зажигание. Кухонную дверь разнесло в щепки, Майкла с силой отшвырнуло на добрых десять футов в сторону вдоль стены. С крыши дома на плечи ему градом посыпались камни, один задел его по голове. Теряя сознание, он успел увидеть, что от «Альфа-Ромео» остались четыре колеса да стальные оси, соединяющие их, ― больше ничего.
В комнате, где он очнулся, было совсем темно, слышались чьи-то приглушенные голоса, но слов он разобрать не мог. Повинуясь неясному инстинкту, он старался не показать, что пришел в себя, но голоса умолкли; кто-то, сев на стул у его кровати, наклонился к нему и произнес, уже внятно: