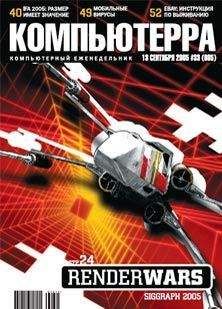Гордон Рис - Мыши
Мама уезжала на работу в начале девятого, поскольку теперь ей приходилось добираться намного дольше. Мы прощались точно так, как это делают пожилые супруги: я чмокала ее в щеку, напоминала о том, чтобы машину вела аккуратно, а потом, с порога, махала ей вслед рукой, пока ее старенький «форд-эскорт» медленно отъезжал по гравийной аллее. Она всегда оглядывалась назад и махала в ответ, напутственно поднимая в воздух кулачки. Проводив маму, я мыла посуду, накопившуюся после завтрака и с вечера, слушала новости по радио, потом поднималась в свою комнату и одевалась.
Ровно в десять утра приезжал мой главный наставник, Роджер Кларк. Роджер преподавал мне английский язык и литературу, историю, французский и географию — пять предметов, по которым я уверенно рассчитывала получить высшие баллы. Мы с Роджером занимались за большим столом в столовой, подкрепляясь чаем, который, по словам Роджера, я заваривала так крепко, что «ложка стояла».
Поначалу мама без энтузиазма отнеслась к тому, что будет приходить учитель-мужчина, но, получив заверения в том, что у него безупречная репутация, и встретившись с ним лично, успокоилась. Должно быть, она увидела, что Роджер не представляет для меня угрозы, поскольку он и сам был мышью. Он тоже носил на груди эмблему мышиного братства, и я сразу почувствовала в нем родственную душу.
Ему было всего двадцать семь, но он уже растерял почти всю шевелюру, и все из-за стрессов. Осталось лишь две дорожки над ушами. Возможно, чтобы компенсировать этот недостаток, он отрастил густые пшеничные усы. Он был анорексично худым и носил круглые очки в роговой оправе, которые увеличивали его зеленые глаза. Когда он говорил, его кадык смешно двигался вверх-вниз, похожий на яйцо вкрутую. Несмотря на его странноватую внешность, мне было уютно с Роджером, и к тому же я очень скоро убедилась в том, что он талантливый педагог. Негромким голосом, доходчиво, он объяснял самые сложные вещи, и то, что мне прежде казалось головоломкой, вдруг становилось простым и понятным.
Мы с Роджером действительно хорошо ладили. Для меня он был скорее друг, а не учитель. Во время регулярных «переменок» он рассказывал о себе. Так я узнала, что он с отличием окончил университет, где изучал историю, а потом переквалифицировался в школьного учителя. Он всегда стремился преподавать — его родители были учителями, и он видел, сколько удовлетворения и радости приносила им работа.
Однако для Роджера реальность оказалась совсем не похожей на мечту. Он попал в школу, где мало кто из детей проявлял интерес к учебе. Его внешний вид был предметом насмешек среди учеников, которые даже придумали ему прозвище Недоносок. В его классах были серьезные проблемы с дисциплиной. За пять лет работы в школе он целых одиннадцать раз подвергался нападениям со стороны учеников. Его машину вскрывали, прокалывали шины так часто, что он в конце концов продал ее и ходил в школу и обратно пешком — на круг выходило больше четырех миль. Он даже не мог воспользоваться автобусом, поскольку опасался, что среди попутчиков окажутся его подопечные.
И вот, после того как ученик ударил его головой в рот и выбил передний зуб, у Роджера случился нервный срыв, и он был вынужден уйти с работы по болезни. Когда ему стало лучше, он вернулся в университет, чтобы писать исследовательскую работу о причинах Первой мировой войны (второй по масштабу мышиной резни в истории). Он отчаянно нуждался в деньгах, поскольку грант был очень маленьким, и друг посоветовал ему обратиться к местным властям, предложив себя в качестве домашнего педагога для детей, которые не могли посещать школу либо по причине слабого здоровья, либо из страха. Я была его второй ученицей.
С Роджером я постепенно избавилась от прежней замкнутости и охотно рассказала ему свою историю: про отца, для которого сексуальная жизнь оказалась важнее собственной дочери; про ДЖЭТШ, про то, как бывшие подруги едва не забили меня до беспамятства, а потом подожгли мне волосы.
— Как странно, — сказала я ему однажды, — я была ученицей, а вы учителем, и мы оба стали жертвами школьной травли.
Он нахмурился, словно хотел обозначить возрастную границу между нами, но потом вдруг улыбнулся, как будто говоря: какой смысл отрицать очевидное?
— У нас много общего, — сказала я.
Взгляд его искаженных стеклами очков зеленых глаз задержался на моем лице.
— Да, Шелли, — улыбнулся он, — у нас действительно много общего.
В час дня мы заканчивали занятия, и Роджер уезжал обратно в город, произнося на прощание свою дежурную шутку: «Хорошо, что я привез с собой клубок, иначе бы мне никогда не найти обратную дорогу к цивилизации!»
Я начинала готовить легкий ланч — обычно это был салат — и садилась смотреть дневные новости по телевизору. У мамы был такой тяжелый портфель заказов, что ей приходилось работать без перерыва, она лишь наспех перекусывала сэндвичами прямо на рабочем месте. В то время как Блейкли, Дэвис и другие партнеры пировали в местном бистро, словно жирные коты, которыми они себя воображали, мама сидела в пустом офисе, тихо и кропотливо исправляя их ошибки.
После ланча я устраивалась с книгой на подоконнике в своей спальне, под этот божественный прозрачный свет. Если на улице было тепло — а в тот февраль выдалось немало погожих дней, — я читала в саду, старательно прикрывая от солнца шрамы на лбу и шее.
В половине третьего приезжала миссис Харрис, невысокая коренастая женщина лет за пятьдесят с крашеными рыжими волосами. У меня с ней не было таких доверительных отношений, как с Роджером, и не только потому, что она преподавала мне математику и естественные науки, которые я не могла причислить к своим любимым предметам.
Миссис Харрис много лет учила таких мышей, как я, и за это время ее сочувствие к слабым успело испариться. Она давно пришла к выводу, что мы, дети на домашнем обучении, слабаки, избалованные и капризные отпрыски, не способные противостоять трудностям жизни. Однажды я что-то сказала о своих шрамах, и она обрушилась на меня с резкой критикой.
— Шрамы? Шрамы? И ты называешь это шрамами? Тебе следует сходить в госпиталь и посмотреть, как выглядят настоящие ожоги. Немного макияжа, и никто даже не заметит твоих шрамов. Вот в чем проблема сегодняшних молодых людей — слишком тщедушны, думают только о себе.
В душе меня возмущало ее отношение ко мне, но я была слишком слаба, чтобы подать голос в свою защиту. Я-то знала, что повидала на своем веку немало трудностей — если точнее, слишком много. И сомневалась в том, что миссис Харрис сталкивалась с чем-то похожим, иначе она бы проявляла больше понимания.
Миссис Харрис уезжала в половине пятого, и я садилась за домашние задания, пока в половине седьмого не возвращалась с работы мама. Если к тому времени я успевала сделать уроки, то играла на флейте. Музыкальная подставка стояла рядом с пианино, так что мне открывался чудесный вид на палисадник, залитый дневным светом. Если у меня не было настроения музицировать, я читала или садилась в столовой и рисовала. Поскольку я не была сильна в придумывании сюжетов, я доставала с книжной полки какой-нибудь альбом по искусству и копировала понравившуюся лошадь или интересный пейзаж. Иногда я принималась рисовать какой-нибудь предмет из тех, что стояли на серванте, — деревянную чашу для ароматических смесей, вазу с сухоцветами, какую-нибудь фарфоровую или стеклянную безделушку, что коллекционировала мама. В большинстве своем это были подарки маме от ее мамы (мама так и не осмелилась признаться в том, что это «не совсем в ее вкусе»). Все эти поделки были, по сути, китчем — ежик от «Беатрис Поттер»; викторианская розовощекая цветочница; маленький мальчик-рыбак с леской, привязанной к пальцу ноги; стеклянный дельфин, рассекающий водную гладь; миниатюрный коттедж с соломенной крышей. Но, как ни странно, чем сильнее они смахивали на китч, тем более забавными казались и тем больше мы были привязаны к ним.
Но больше всего я любила вечера с мамой в коттедже Жимолость. Когда она приезжала с работы, я заваривала для нее чай, и мы садились за кухонный стол и болтали. Мы переняли обычай, подсмотренный в фильме с Мишель Пфайффер «История про нас», в котором члены одной семьи за ужином обменивались впечатлениями о прожитом дне.
Самыми яркими событиями моей жизни были, как правило, хорошие отметки от Роджера, или чтение наиболее захватывающих глав романа, или удачные рисунки. Настроение неизменно падало, когда я видела шрамы, по-прежнему уродующие мои шею и лоб, или когда думала об отце и злилась на него за то, как он обошелся с нами. Маму радовали выигранные в суде дела и похвала от благодарных клиентов, а расстраивали грубые высказывания одиозного мистера Блейкли — он не гнушался даже сквернословия — и его неоднократные попытки притереться к ней в копировальной комнате.