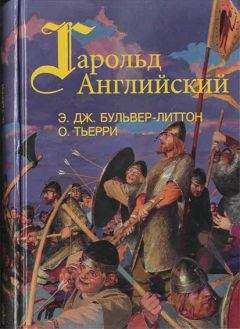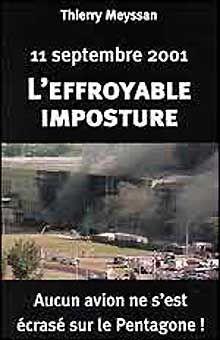Тьерри Жонке - Тарантул
Когда эти сеансы наблюдения только начались, было немыслимо произнести хотя бы слово, из страха разбудить его ненависть, из страха, что ночью он вновь голодом или жаждой накажет тебя за твою ошибку, природа которой по-прежнему оставалась тебе неведома и которую, похоже, тебе предстояло искупить.
Потом отчаяние придало тебе отваги. Пленник осмелился робко спросить, какое сегодня число, просто чтобы узнать, сколько времени продолжается это заключение. Он тотчас же ответил тебе, улыбаясь: двадцать третье октября… Получалось, что он держал тебя в заточении уже больше двух месяцев. Два месяца здесь, два месяца голода и жажды, сколько дней тебе довелось есть из его рук, лакать из миски, распростершись у его ног, принимать душ из поливального шланга?
Последовали твои слезы и новый вопрос: почему он все это делает. На этот раз он промолчал. Лицо его в обрамлении седых волос казалось тебе непроницаемым, лицо, выдающее благородство, лицо, которое, возможно, тебе уже где-то доводилось видеть.
Он приходил в твою тюрьму и оставался там, неподвижный, бесстрастный. Он вставал и уходил, позже снова возвращался. Кошмары, преследовавшие тебя в начале заточения, больше не мучили. Вероятно, он подмешивал успокоительное в твою похлебку. Конечно, тревога никуда не делась, она просто куда-то переместилась; в душе поселилась уверенность, что он оставит тебя в живых, иначе, как думалось, он давно бы уже убил тебя… Заставить тебя агонизировать, угаснуть, иссохнуть до смерти не входило в его планы. Они были другими.
Некоторое время спустя ритуал приемов пищи тоже претерпел изменения. Хозяин поставил перед тобой раскладной столик и табурет. Он стал давать тебе пластмассовые вилку и нож, такие, какими пользуются в самолетах. Миску заменила нормальная тарелка. На смену похлебке пришла настоящая еда: фрукты, овощи, сыр. Тебе доставляло невыразимое удовольствие есть, вновь воскрешая в памяти воспоминания первых дней…
Цепи, приковывавшие тебя к стене, никуда не делись, но теперь хозяин лечил воспаленные ссадины на запястьях, вызванные трением металла. Он мазал раны особой мазью, потом накладывал на кожу эластичный бинт, так что под железным браслетом оказывалась повязка.
Теперь все было гораздо лучше, но он по-прежнему ничего не говорил. Зато тебе пришло в голову рассказывать о своей жизни. Он слушал в высшей степени заинтересованно. Переносить его молчание становилось все тяжелее. Тебе нужно было говорить, повторять снова и снова свои истории, случаи из детства, болтать до изнеможения, чтобы доказать самому себе, доказать ему, что ты не животное!
Еще позднее твой режим питания вдруг изменился в лучшую сторону. Теперь он приносил тебе вино, изысканные блюда, которые, должно быть, заказывал в ресторане. Тарелка тоже была из дорогого сервиза. Сидя голым на табурете, прикованным цепью к стене, пленник жадно поглощал икру, семгу, мороженое и пирожные.
Он сидел рядом с тобой, подавая блюда. Он принес кассетный магнитофон, и вы слушали Шуберта, Листа.
Что касается самой унизительной стороны твоего существования, здесь он тоже стал проявлять гуманизм. Теперь в твоем распоряжении имелось ведро, до него при необходимости легко было дотянуться.
Наконец однажды он позволил тебе на несколько часов отойти от стены. Он выгуливал тебя по подвалу, держа на цепях, словно на поводке. Твои ноги описывали медленные круги вокруг прожектора.
Чтобы время проходило быстрее, хозяин стал приносить с собой книги. Классиков: Бальзака, Стендаля… В лицее они были тебе ненавистны, но здесь, в этой дыре, какое наслаждение было проглатывать эти книги залпом, сидя, поджав ноги, на убогом ложе из вощеной ткани или облокотившись на складной столик.
Со временем развлечений становилось все больше. Хозяин заботился о том, чтобы тебе не было скучно. Проигрыватель, диски, даже электронные шахматы; время текло быстро. Он отрегулировал силу прожектора, чтобы его свет больше не слепил тебя. Кусок ткани рассеивал свет, и подвал наполнялся тенями: вернее, это была одна твоя тень, но повторенная множество раз.
Со всеми этими изменениями, этой роскошью, которая скрашивала твое одиночество, учитывая, что хозяин не проявлял никакой жестокости, тебе удалось забыть или, по крайней мере, приглушить свой страх. Твоя нагота, эти цепи, которые тебя сковывали, казались здесь нелепыми и неуместными. Прогулки на поводке продолжались. Дрессированное, ученое животное. Тебя мучили провалы памяти, в какие-то моменты ирреальность ситуации, ее полная абсурдность, ощущалась особенно остро. Очень хотелось расспросить хозяина, но он не поощрял твоих расспросов, ограничивался тем, что старался заботиться о твоих удобствах. Что тебе угодно на ужин, нравится ли тебе этот диск?
Где была деревня, как мать? Должно быть, тебя ищут? В памяти проступали лица приятелей, потом их заволакивало дымкой, они таяли в плотном тумане. Тебе уже не удавалось вспомнить черты лица Алекса, цвет его волос… В одиночестве тебе случалось громко разговаривать с собой, вдруг поймать себя на том, что губы насвистывают детские песенки, далекое прошлое вдруг возвращалось неожиданными, невнятными толчками; внезапно в памяти возникали образы давно позабытого детства, до странности четкие, а потом тоже рассеивались в мутном тумане. Время растягивалось, сжималось, и уже невозможно было понять: минута, два часа, десять лет?..
Хозяин заметил это неудобство и, чтобы устранить его, принес в подвал будильник. Теперь можно было считать часы, с восхищением наблюдая, как передвигаются стрелки. Впрочем, это было условное время: было десять часов утра или десять вечера, вторник или воскресенье? Это не имело никакого значения: вновь можно было упорядочить свою жизнь, в полдень я хочу есть, в полночь спать. Это был ритм, нечто такое, за что можно было уцепиться.
Так прошло несколько недель. Среди подарков хозяина оказалась пачка бумаги, карандаши, резинка. Рисунки поначалу получались неловкими, затем к тебе вернулась прежняя сноровка. Под твоей рукой возникали портреты без лиц, рты, хаотичные пейзажи, море, огромные скалы, гигантская рука гнала по воде волны. Затем рисунки приклеивались скотчам на стену, чтобы как-то прикрыть голый бетон.
Мысленно пленник дал Хозяину имя. Разумеется, в глаза так называть его было невозможно. Это имя было Тарантул, в память о пережитых кошмарах. Тарантул, название отвратительного насекомого, оно так не соответствовало его благородной внешности, а также той тонкости и вкусу, какие он выказывал, когда выбирал тебе подарки.
Но все-таки Тарантул, потому что он до такой степени был пауком, неторопливым и невидимым, жестоким и беспощадным, алчным и ненасытным в своих намерениях; пауком, затаившимся где-то в этом здании, в котором он столько месяцев держал тебя в плену; роскошная паутина, золотая клетка; он был тюремщиком, а ты пленником.
Плакать или жаловаться было бессмысленно. В материальном смысле твоя теперешняя жизнь была отнюдь не трудной. В это время года — февраль? март? — тебе нужно было бы находиться в лицее, это твой последний год, но пришлось оказаться здесь, на цепях в этом бетонном кубе. И даже нагота стала тебе привычной. Никакого стыда больше не существовало. Только цепи казались невыносимыми.
Вероятно, где-то в мае, если верить твоему личному подсчету, но, возможно, и несколько раньше, произошло весьма странное событие.
На твоем будильнике была половина третьего. Тарантул спустился к тебе. Он сел в свое кресло, как обычно, и принялся наблюдать за тем, как ты рисуешь. Потом он вдруг поднялся и подошел к тебе. Чтобы оказаться вровень с ним и посмотреть ему в глаза, тебе пришлось выпрямиться.
Два ваших лица почти соприкасались. Тебе хорошо были видны его синие глаза, подвижные, цепкие, на холодном, непроницаемом лице. Тарантул поднял руку и положил ее тебе на плечо. Дрожащие пальцы поднялись выше, вдоль шеи. Он стал ощупывать твои щеки, нос, осторожно нажимая на кожу.
Твое сердце колотилось все сильнее. Его горячая рука вновь спустилась, провела по твоей груди, затем осторожно и ловко пробежалась по бокам, животу. Он ощупывал твои мышцы, гладкую, лишенную растительности кожу. Ты совершенно неправильно истолковал смысл его движений. Твоя рука тоже осторожно заскользила по его лицу, лаская его. Сжав зубы, Тарантул резко дал тебе пощечину. Он приказал тебе повернуться, и его методическое обследование продолжалось еще довольно долго.
Когда все было закончено, тебе было позволено сесть, щека еще горела от полученного удара. Он, смеясь, наклонил голову и запустил руку тебе в волосы. Твои губы растянулись в улыбке.