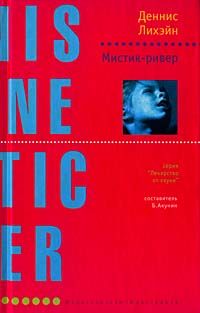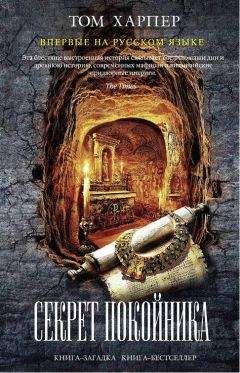Деннис Лихэйн - Мистик-ривер
Глаза Джимми были устремлены в туннель, упиравшийся в решетку сточной канавы.
– Что ж, теперь будешь посылать пять сотен в месяц Селесте, да?
Джимми поднял глаза, и оба они одновременно прочитали это в чертах друг друга: Шон увидел то, что сделал Джимми, а Джимми – то, что Шону это известно.
– Ты ведь сделал это, черт тебя дери! – сказал Шон. – Ты убил его.
Джимми поднялся, держась за перила.
– Не понимаю, о чем ты говоришь.
– Ты убил обоих – Рея Харриса и Дейва Бойла, Джимми. Я пришел сюда, думая, что это бред, но теперь я по лицу твоему все понял. Ты сумасшедший, псих, сволочь проклятая – ты это сделал! Ты убил Дейва! Ты Дейва Бой л а убил! Нашего друга, Джимми!
Джимми фыркнул:
– Нашего друга? Что ж, правда, мальчик со Стрелки, тебе он был приятелем. Вы вечно вместе ошивались, ведь так?
Шон надвинулся на него:
– Он был нашим другом, Джимми. Ты помнишь?
Джимми заглянул Шону в глаза и подумал, уж не хочет ли тот его ударить.
– В последний раз, – сказал он, – я виделся с Дейвом вчера вечером у меня дома. – И, отстранив Шона, направился через улицу. – А больше я его не видел.
– Вранье собачье!
Он повернулся и развел руками, глядя на Шона:
– Так арестуй меня, если ты так в этом уверен! – Я представлю доказательства, – сказал Шон. – Ты знаешь, что так и будет.
– Фиг ты представишь, – сказал Джимми. – Спасибо, что поймал убийц моей дочери, Шон. На самом деле спасибо. Конечно, лучше бы это произошло быстрее, да? – Джимми передернул плечами и, повернувшись к нему спиной, направился вниз по Гэннон-стрит.
Шон смотрел ему вслед, пока фигура Джимми не растворилась в темноте под сломанным фонарем, как раз напротив бывшего дома Шона.
Ты сделал это, думал Шон. Взял и сделал, хладнокровный бандит, зверь и животное! И самое плохое, что я знаю, как ты хитер. Ты позаботился о том, чтобы не оставить нам зацепок. Это твой почерк, ведь ты парень дотошный. Мерзавец.
– Ты отнял у него жизнь, – вслух сказал Шон. – Ведь так, старина?
Швырнув банку из-под пива на обочину, он направился к машине и позвонил Лорен с сотового телефона.
Когда она ответила, он сказал:
– Это Шон.
Молчание.
Теперь он знал, чего не говорил ей, хотя она так ждала это услышать, слова, в которых он отказывал ей весь этот год с лишним. Все, что угодно, твердил он себе, я скажу ей любые слова, только не эти.
Но сейчас он выговорил их. Выговорил, после того как мальчишка целился ему в грудь, мальчишка, в глазах которого была пустота, а еще после того, как он вспомнил беднягу Дейва, вспомнил, как он, Шон, предложил выпить с ним пива, увидев, как мелькнула на лице его отчаянная искра надежды – ведь Дейв не верил, что кто-то в целом мире захочет выпить с ним пива. И он сказал Лорен эти слова, потому что в глубине души сам испытывал потребность их сказать, ради Лорен и ради себя самого.
Он сказал:
– Прости меня.
А Лорен сказала:
– За что?
– За то, что винил во всем только тебя.
– Ну, хорошо...
– Послушай...
– Послушай...
– Ну, говори ты... – сказал он.
– Я... о, черт... Шон, ты тоже меня прости. Я не хотела...
– Все в порядке, – сказал он. – Правда. – Он глубоко вздохнул, вдыхая спертый, пропахший потом воздух внутри машины. – Я хочу тебя видеть. Хочу видеть мою дочь.
А Лорен ответила:
– Откуда ты знаешь, что она твоя?
– Моя.
– Но анализ крови...
– Она моя дочь, – сказал он. – Не надо никаких анализов. Ты вернешься домой, Лорен? Вернешься, да?
Где-то в тишине улицы раздался гул мотора.
– Нора, – сказала она.
– Что?
– Так зовут твою дочь, Шон.
– Нора, – сказал он, и голос его был хриплым.
* * *Когда Джимми вернулся домой, Аннабет не спала – дожидалась его в кухне. Он сел за стол напротив нее, и она слегка улыбнулась ему такой милой заговорщической улыбкой, которую он так любил, улыбкой, говорившей: «Я так хорошо тебя знаю, что если ты даже не скажешь больше ни одного слова, я все равно пойму, о чем ты думаешь». Джимми взял ее руку, провел по ней большим пальцем, пытаясь обрести силу в том представлении о нем, которое он читал в глазах жены.
На столе между ними стоял датчик «Дежурной няни». Они купили его месяц назад, когда Надин болела тяжелой стрептококковой ангиной – они слушали тогда ее дыхание и всхрапывание во сне, и Джимми казалось, что дочь его тонет и что вот сейчас раздастся звук такой страшный, что он выскочит из дому в чем есть, в майке и трусах, схватив девочку в охапку и помчится в «Скорую помощь». И хотя Надин быстро поправилась, Аннабет оставила датчик на столе, не положив его в футляр, который она держала в столовой в шкафу. По ночам она включала «Дежурную няню» и слушала, как спят Надин и Сара.
Сейчас они не спали. Джимми слышал, как они шепчутся, хихикают, и ему было страшно представлять себе их одновременно с тем, что он наделал.
Я убил человека. Не того.
Эта мысль, сознание, совесть сжигали его изнутри.
Я убил Дейва Бойла.
Слова эти, как раскаленные уголья, падали вниз, в живот, рассыпались в нем горячими искрами.
Я убил его. Убил невиновного.
– Ой, милый, – проговорила Аннабет, вглядываясь в лицо, – деточка, что случилось? Это из-за Кейти? У тебя лицо – будто ты умираешь!
Она обошла стол, и в глазах ее была пугливая смесь беспокойства и любви. Она обхватила Джимми, притянула к себе его лицо, заставила глядеть ей в глаза.
– Скажи мне. Скажи мне, что не так.
Джимми хотелось спрятаться от нее. Любовь ее сейчас слишком больно ранила. Он хотел раствориться, вырваться из теплых рук, отыскать где-нибудь укромное место, какую-нибудь темную пещеру, где не настигнет его ни любовь, ни свет, где можно свернуться клубочком и в стонах и рыданиях излить в темноту печаль и ненависть к себе.
– Джимми, – прошептала она, целуя его веки. – Джимми, поговори со мной. Пожалуйста.
Она прижала ладони к его вискам, пальцы ее ерошили ему волосы, гладили под волосами, она целовала его. Язык ее скользнул к нему в рот, рыща там, отыскивая источник боли, высасывая эту боль, и если понадобилось бы, он превратился бы в скальпель, чтобы иссечь из него раковые опухоли, высосать их из его тела.
– Расскажи мне. Пожалуйста, Джимми. Расскажи мне.
И, видя эту любовь, он понял, что должен рассказать ей все, иначе он пропал. Он не был уверен, что спасение в этом, но твердо знал, что если не откроется ей, то уж точно погибнет.
И он рассказал ей.
Он рассказал ей все. Рассказал о Простом Рее Харрисе и о том, как в одиннадцать лет в нем поселилась печаль, рассказал, что любовь к Кейти – это единственное несомненно хорошее, что было в его жизни – никчемной во всем остальном, что пятилетняя Кейти, эта незнакомая ему дочка, которая не доверяла ему и в то же время цеплялась за него, была самым уязвимым его местом и единственной его работой и обязанностью, от которой он никогда не отлынивал. Он рассказал жене, что любовь к Кейти и заботы о ней были смыслом его жизни, ее сутью, и когда Кейти скончалась, кончился и он.
– И вот поэтому, – сказал он, и кухня стала душной и тесной, когда он это говорил, – я убил Дейва. Я убил его, схоронил в Мистик-ривер, а теперь открылось, что, похоже, преступление его не так ужасно, что он невиновен. Вот что я наделал, Анна. И этого не воротишь. Наверное, меня следует отправить в тюрьму, мне надо сознаться в убийстве Дейва и вернуться в тюрьму, для которой, я думаю, я и предназначен. Нет, не спорь, милая, это так. А эта жизнь не для меня. Я человек ненадежный.
Голос его был словно чужой. Он был так непохож на его обычный голос, что он подумал, не видит ли и Аннабет в нем чужого, призрак Джимми, его копию, эфемерную, расплывающуюся в пространстве.
Глаза Аннабет были сухими, лицо твердым, собранным, словно она приготовилась к сеансу позирования. Подбородок вздернут, взгляд ясный и непроницаемый.
Джимми опять услышал на датчике детские голоса – девочки шептались, и звук этот был как мягкий шелест листвы на ветру.
Потянувшись к нему, Аннабет начала расстегивать на нем рубашку, и Джимми, замерев, следил за ловкими движениями ее рук. Она распахнула на нем рубашку, приспустила ее с плеч и прижалась к нему щекой, приложив ухо к груди, посередине.
Он сказал:
– Я просто...
– Ш-ш... – шепнула она. – Я слушаю, как бьется сердце.
Руки ее скользнули по груди Джимми, а потом вверх по спине, и она еще теснее прижалась к нему. Она закрыла глаза, и на губах ее показалась легкая, еле заметная улыбка.
Они посидели так некоторое время. Шепот дочерей на датчике сменился тихим сонным посапыванием.
Когда она отодвинулась, Джимми все еще чувствовал ее щеку на груди – как постоянную отметину, как клеймо. Она сползла с его колен на пол и сидела так перед ним, глядя ему в глаза. Потом повернулась к «Дежурной няне», и они послушали, как спят дочери.
– Знаешь, что я говорила им сегодня, укладывая их в постель?