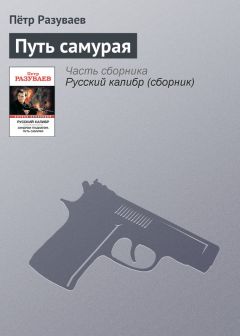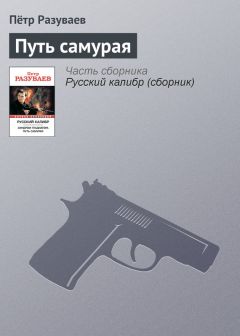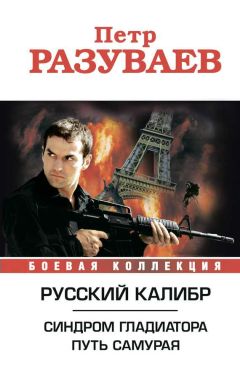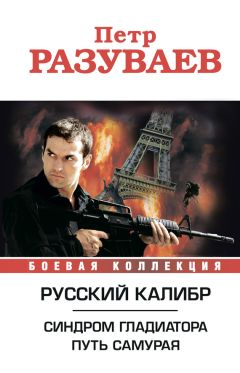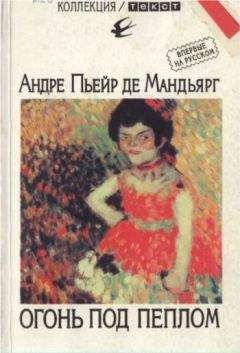Петр Разуваев - Синдром гладиатора
Внутри самолета было прохладно. Кивнув почтительно вытянувшемуся охраннику, я миновал короткий коридор и оказался в просторном помещении, в котором обычно проводились деловые встречи. Длинный стол, простые и удобные стулья. Несколько кресел, тесным кружком собравшихся вокруг низкого столика. Навстречу мне шагнул еще один рослый «голем», быстро окинувший меня с головы до ног цепким взглядом. Результат проверки его, видимо, удовлетворил. Отступив, тихим и ровным голосом охранник произнес:
— Добрый день, месье Дюпре. Присядьте. Я доложу господину Дюпре о вашем прибытии.
Вежливо растянув губы в профессиональной улыбке, он удалился, оставив меня в гордом одиночестве. Из вредности отвергнув предложенное мне кресло, я некоторое время прогуливался взад и вперед, измеряя шагами длину стола, а потом сел на один из стульев. Рядом тихо возник стюард, облаченный в белую форменную куртку, и, поставив передо мной запотевший высокий стакан, наполненный минеральной водой с кубиками льда, так же неслышно удалился. Прошло десять минут, двадцать, полчаса, а отец все не появлялся. Меня ставили на место? Возможно…
Я докуривал уже вторую сигарету, когда он быстрыми шагами вошел в зал. Машинально поморщившись от едва ощутимого запаха дыма, он бросил короткий взгляд на следовавшего за ним телохранителя. Тот мгновенно испарился, и буквально в ту же секунду я почувствовал, как усилилась циркуляция воздуха в салоне. Отец очень давно бросил курить и с тех пор не выносил даже запаха табака.
Он первый сделал шаг навстречу, я тоже шагнул вперед, и мы сошлись, осторожно заключив друг друга в объятия. Не так уж часто нам доводилось встречаться в последние годы, привычный для французов ритуал вызывал в нас обоих чувство смущения, словно мы что-то делали не так. Едва коснувшись щеки, он поцеловал меня. Дважды, а не три раза, как принято у русских. В отличие от меня отец не забивал себе голову «национальным вопросом», тридцать лет назад он просто стал Сержем Дюпре. Раз и навсегда.
— Здравствуй, Андре, — сказал он, делая шаг назад. Под внимательным, изучающим взглядом его серых глаз я всегда чувствовал себя неуютно.
— Здравствуй, папа.
Последний раз мы встречались не более двух месяцев назад, и это было своеобразным рекордом. Обычно паузы между встречами затягивались, и случались они не чаще одного раза в год, а то и в два. Мне всегда казалось, что время не действует на него, что он совсем не меняется. Отцу было шестьдесят пять лет, но выглядел он лет на двадцать моложе. Высокий рост, загорелое лицо, легкая седина — в нем было то, что принято называть элегантностью, а подтянутая фигура и легкие, скупые движения говорили о том, что папа по-прежнему не чурается спорта. Все у него было хорошо. Вот только… Морщинок вокруг глаз стало больше, и в уголках рта залегли какие-то складки. Или мне показалось?
— У меня, как всегда, мало времени, — произнес он, жестом приглашая меня сесть. Сам он уже занял одно из кресел. Я последовал его примеру.
— Рихо уже изложил мне в общих чертах твои… требования. Хочешь что-нибудь добавить?
— Нет. — Я покачал головой.
— Может быть, тебя снова интересуют причины? В прошлый раз…
— Нет. Меня не интересуют причины. Я знаю все, что мне нужно знать. Жаль только… Не от тебя.
— Да, — согласился он, задумчиво глядя на меня. — Жаль. Но ведь ты сам выбирал себе союзников?
— Да. И я их выбрал.
Он опустил глаза, и покачал головой.
— Не думаю, что это окончательный выбор. Впрочем… Ты хочешь увезти Липке в Россию?
— Он хочет уехать в Россию. А я хочу ему помочь. Так будет точнее.
— Но Стрекалов умер. Зачем ему это надо? Насколько мне известно, Липке осталось не так много жить, это что, самоубийство?
— Нет, отец. Это искупление. Вряд ли ты поймешь…
— Пожалуй… Андре, я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы понимать, кто автор этого плана. Ты не аналитик. Давид решил принести себя в жертву и упрямо движется к своей цели. Это его дело. Но — он слишком много знает. Ты понимаешь, что может произойти?
— Ты имеешь в виду — много знает о тебе? Он кивнул.
— И это может кого-то заинтересовать в России? Отец с усмешкой откинулся в кресле.
— Узнаю Давида Липке… — произнес он. — Хорошо. Рихо сказал, что досье у тебя. Но сам он их не видел. Где гарантия того, что ты не блефуешь?
— Вот. — И я сунул руку в нагрудный карман рубашки. Отец вскинул голову и взглядом остановил кого-то, кто стоял за моей спиной. «Голем». Эх, папа, папа… Я аккуратно положил на толстое стекло, из которого была сделана крышка стола, маленький черный цилиндрик.
— Стрекалов передал мне две микропленки. Одна надежно спрятана. Вторая — перед тобой. Я не знаю, чье это досье, твое или мое. Но это, по-моему, не имеет большого значения?
Отец согласно кивнул, не сводя глаз с черной «горошины», лежавшей перед ним.
— Если бы ты только знал, сколько мне пришлось… — Он замолчал, не договорив.
— Отец, — окликнул я. — Давид должен улететь.
— Хорошо. — Он устало откинулся в кресле. Его лицо осунулось, резче проступили морщины.
— Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — закончил он. — Я отдам распоряжения Рихо.
Он словно ждал чего-то от меня, каких-то слов, но… Мне нечего было сказать. Поднявшись на ноги, я поклонился. Сейчас всем своим обликом отец напоминал мне маску «дейган», одну из масок театра Но. Уставший человек, много страдавший и не нашедший покоя. Он тоже встал и смотрел на меня долгим, испытующим взглядом.
— До свидания, папа, — сказал я негромко. Он усмехнулся уголком рта.
— До свидания… сын. Мне жаль, что все получается именно так.
Я до боли закусил нижнюю губу. Еще недавно, провожая меня в Амстердам, он сказал то же самое. И я слишком хорошо помнил, чем все это закончилось. Но… Отец уже развернулся и удалялся от меня легким, стремительным шагом. Он был в дверях, когда я окликнул его:
— Папа? Когда ты последний раз просто гулял по Парижу?
Он сбился с шага, и на мгновение мне показалось, что его плечи устало поникли, словно враз придавленные непосильной ношей. Не оборачиваясь и не ответив, отец скрылся за дверью.
И я так и не понял, выиграл я этот раунд или проиграл…
* * *Попадая в любой аэропорт мира, я всякий раз волей-неволей вспоминал муравейник. И его многочисленных обитателей. Вокруг ходили, сидели, стояли многие сотни людей, мимо сновали шустрые служащие, чьим-то гением поставленные на роликовые коньки; непрерывно звучали мелодичные «громкоговорящие» женские голоса, которые объявляли о прибытии и отлете рейсов во все концы света. Воистину, все дороги ведут в Рим, сейчас я это понимал совершенно отчетливо.
Длинным и просторным коридором, одной сплошь стеклянной стеной выходящим прямо на взлетное поле, мы шли по направлению к своему терминалу. Посадка на рейс «Аэрофлота» Рим — Москва уже была объявлена. Обгоняя нас, к нужной всем стойке стремительно неслись русскоязычные граждане, деловито звеня объемистыми пакетами, набитыми в «Duty Free». Разные люди, туристы и проститутки, бизнесмены и бандиты спешили упасть в объятия любимой Родины, а на смену им уже вылетали из Пулково и Шереметьево новые россияне. Круговорот людей в природе. Россия действительно распахнула свои двери, жаль только, что при этом на другие страны выплеснулась добрая лохань настоящих отбросов. Так сказать: от нашего дома — вашему дому. Сэ ля ви.
Давид шел медленно, каждый шаг давался ему с трудом. Мне вообще казалось, что им сейчас движет уже нечто большее, чем просто сила воли. Врач, в последний раз осматривавший Давида в «крепости», был категоричен в своей оценке: каждое движение должно было причинять Липке невыносимую, адскую боль. И тем не менее он шел рядом со мной, о чем-то говорил, пытался шутить. Я не понимал, как ему это удается, и мысленно преклонялся перед ним.
Позади нас черными тенями скользили Рихо и еще двое его людей. С того момента, как приказ о нашем отъезде был им получен, все проблемы между нами исчезли сами собой. По крайней мере, я хотел так думать. Какая-то едва уловимая напряженность оставалась, но я относил ее целиком за счет эстонского упрямства Рихо Арвовича. Он сам настоял на том, чтобы нас сопровождала охрана, и лично возглавил тщательно отобранных для этой цели людей. Смысла в этом, на мой взгляд, не было никакого, но спорить я не стал. Знал, что обойдется себе дороже. Отъезд, приезд, переезд — все шло настолько замечательно, что чувство тревоги взыграло во мне с новой силой. Когда очень хорошо — тоже не хорошо, это я усвоил четко. Слишком уж все гладко…
— Вам не кажется все это странным? — слегка наклонившись к Давиду, поинтересовался я.
— Кажется, — безмятежно улыбнувшись, ответил он. И тут же чуть поморщился от боли.
— Я не верю в подарки судьбы, Давид. Мы слишком легко победили.