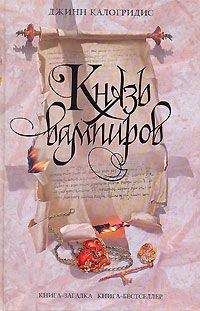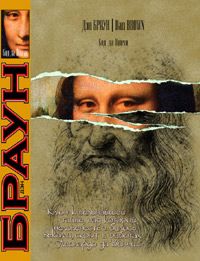Элизабет Костова - Историк
— Она говорит, что всегда знала, что это случится.
Я беспомощно стоял рядом, но мать Элен, сделав несколько глотков, казалось, опомнилась. Она взглянула на меня и, к моему смущению, мягко взяла меня за руку, словно угадав желание, которое я подавил несколько минут назад, и притянула к своему стулу. Она мягко гладила мою ладонь, будто утешала ребенка. Я не мог представить, чтобы моя соотечественница позволила себе такой жест при первой встрече с мужчиной, и, однако, ничто не могло быть для меня естественнее ее движения. Теперь я понимал Элен, утверждавшую, что ее мать понравится мне больше, чем тетя.
— Мать хочет знать, действительно ли ты веришь, что профессора Росси забрал Дракула.
Я глубоко вздохнул:
— Действительно верю.
— И она хочет знать, любишь ли ты профессора Росси. В голосе Элен сквозило презрение, но лицо ее было серьезно. Мне хотелось свободной рукой погладить ее руку, но я не осмелился.
— Я бы жизнь за него отдал, — ответил я.
Элен повторила мои слова матери, и та вдруг до боли сжала мою ладонь — позже я догадался, что рука у нее стала железной от бесконечной работы. Я ощутил твердые бугорки мозолей на ее ладони, узловатые суставы шершавых пальцев и, опустив взгляд на ее маленькую руку, увидел, что она много старше женщины, сидевшей рядом со мной.
Мгновенье спустя мать Элен выпустила мою руку и прошла к стоявшему за кроватью сундуку. Она медленно откинула крышку, передвинула что-то внутри и вынула пакет — с письмами, мгновенно понял я. У Элен округлились глаза, и она что-то резко спросила, но ее мать, не ответив, вернулась к столу и вложила пакет мне в руку.
Пожелтевшие письма в пакетах без штемпелей были перевязаны линялой красной ленточкой. Передавая мне пакет, мать Элен обеими руками погладила ленточку, словно заклиная меня бережно хранить письма. Одного взгляда на конверты хватило мне, чтобы узнать почерк Росси и прочесть имя, уже хранившееся у меня в памяти. Адрес был: «Тринити-колледж, Оксфордский университет, Англия»».
ГЛАВА 44
«Глубоко растроганный, я сжимал в руках письма Росси, однако, прежде чем думать о них, я должен был отдать один долг.
— Элен, — заговорил я, поворачиваясь к ней, — я знаю, что ты иногда чувствовала: я не верю в историю твоего рождения. Я и правда иногда сомневался. Пожалуйста, прости меня.
— Я удивлена не меньше тебя, — вполголоса отозвалась Элен. — Мать никогда не говорила, что у нее остались письма Росси. Но ведь они не ей адресованы, верно? По крайней мере те, что наверху.
— Да, — согласился я. — Но имя мне знакомо. Известный историк английской литературы — он занимался восемнадцатым веком. Я еще в колледже читал одну его книгу, и Росси о нем говорит в одном из своих писем.
— Но при чем тут моя мать и Росси? — недоумевала Элен.
— Может быть, очень даже при чем. Разве ты не поняла? Это, должно быть, Хеджес — тот самый друг, о котором пишет Росси, помнишь? Наверно, Росси писал ему из Румынии, хотя я все равно не понимаю, как письма оказались у твоей матери.
Мать Элен между тем сидела, сложив руки и глядя на нас с величайшим терпением, но мне показалось, что ее лицо чуть разгорелось от волнения. Теперь она заговорила, и Элен перевела мне:
— Она говорит, что расскажет тебе все. У Элен сел голос, да и я волновался.
Дело шло медленно, потому что рассказчица говорила не спеша, а Элен, работавшая переводчицей, порой прерывала рассказ, чтобы выразить собственное изумление. Как видно, история эта была ей известна только в самых общих чертах, и услышанное поразило ее. В тот же вечер, вернувшись в гостиницу, я, как мог, по памяти записал рассказ: помнится, просидел за столом до самого утра. К тому времени случилось много странного, и я должен был бы с ног валиться от усталости, но я не забыл, с какой вдохновенной дотошностью воспроизводил каждое слово.
— Девочкой я жила в деревне П*** в Валахии, у реки Арджеш. В семье было много детей, и почти все мои братья и сестры до сих пор живут в тех местах. Отец всегда твердил, что наши предки принадлежали к древнему и славному роду, но род пришел в упадок, и я росла, не зная, что такое башмаки или теплое одеяло. Округа была бедная, и хорошо жили только несколько венгерских семейств в больших поместьях ниже по реке. Отец был очень строг, и все мы боялись его кнута. Мать часто болела. Я с малолетства работала в поле за деревней. Священник иногда приносил нам еду или одежду, но чаще нам приходилось обходиться своими силами.
Мне было восемнадцать лет, когда из горной деревни к нам пришла старая женщина. Она была целительницей и умела заглядывать в будущее. Она сказала отцу, что принесла подарок ему и его детям, что слышала о нашей семье и хочет отдать ему волшебную вещь, по праву принадлежащую нам. Отец был человек раздражительный и не желал тратить время на суеверную старуху, хотя и сам всегда натирал все отверстия дома чесноком — дымоход, дверной косяк, окна и замочные скважины, — чтобы отогнать вампиров. Он грубо прогнал лекарку, сказав, что у него нет денег на попрошаек. Позже я вышла в деревню за водой, увидела старушку и дала ей воды и кусок хлеба. Она благословила меня, сказала, что я добрее своего отца и она вознаградит меня за доброту. И она достала из мешка крошечную монетку и вложила мне в руку, посоветовав спрятать и не терять, потому что это наследство нашей семьи. Еще она сказала, что монетка — из замка над Арджешем.
Я знала, что деньги надо отдавать отцу, но не стала, боялась, что он рассердится, зачем я говорила со старой ведьмой. Я спрятала денежку в своем углу кровати, где спала вместе с братьями и сестрами, и никому о ней не рассказала. Иногда, когда никого не было рядом, я доставала ее полюбоваться и гадала, зачем старушка мне ее подарила. На одной стороне монеты был зверь с длинным, загнутым петлей хвостом, а на другой — какая-то птица и крест.
Прошло еще года два. Я все так же работала на отцовском поле и помогала матери по хозяйству. Отец вечно горевал, что у него столько дочерей. Говорил, что нас никак не выдать замуж, потому что приданого не собрать, и мы так и будем висеть у него на шее. Но мать говорила, что вся деревня видит, какие мы красавицы, так что женихи обязательно найдутся. Я старалась держать одежду в чистоте и волосы причесывала и заплетала в косы, чтобы меня не пропустили. Никто из парней, с которыми я танцевала в праздники, мне не нравился, но я знала, что за кого-то из них все равно придется выйти, чтобы не быть обузой родителям. Сестра Ева давно уже уехала в Будапешт с венгерской семьей, в которой служила. Иногда она присылала нам немного денег, а однажды даже прислала мне пару туфелек — настоящих городских туфелек, которыми я очень гордилась.
Так я жила, когда повстречала профессора Росси.
В нашу деревню редко заходили чужие, тем более издалека, но однажды прошел слух, что в таверне сидит человек из Бухареста и с ним приезжий иностранец. Сосед, передавший нам эту новость, шепнул еще что-то на ухо отцу, сидевшему на лавке у крыльца, и тот перекрестился и сплюнул в пыль.
— Чушь и чепуха, — сказал он. — Нельзя о таком спрашивать. Все равно, что самому кликать дьявола.
Но меня одолевало любопытство. Я быстро собралась за водой к колодцу на деревенской площади и за одним из двух столиков деревенской таверны увидела пару незнакомцев, беседовавших со стариком, который целые дни проводил за этим столом. Один из мужчин был большой и черный как цыган, только одет по-городскому. На другом была коричневая куртка, каких я раньше не видела, широкие брюки, заправленные в походные башмаки, и широкая коричневая шляпа на голове. Колодец был на другом краю площади, и мне не видно было лица приезжего. Две мои подружки захотели взглянуть на него поближе, и мы шепотом сговорились подойти. Я побаивалась, потому что знала: отец будет сердиться.
Когда мы проходили мимо таверны, иностранец поднял голову, и я удивилась, увидев, что он молод и хорош собой. У него была золотистая бородка и голубые глаза, как у жителей немецких деревень в наших местах. Он курил трубку и тихо говорил со своим спутником. У его ног лежал потертый полотняный мешок с наплечными лямками, и он писал что-то в картонной книжечке. Мне сразу понравился его взгляд: рассеянный, мягкий и в то же время очень внимательный. Он коснулся полей шляпы, приветствуя нас, и сразу отвел взгляд, и черный урод тоже коснулся шляпы и уставился на нас, не отрываясь от разговора со старым Иваном и записывая что-то. Тот, большой, кажется, говорил с Иваном по-румынски, а потом вдруг повернулся к молодому и сказал что-то на незнакомом языке. Я с подружками быстро прошла мимо — не хотела, чтобы красивый иностранец решил, будто я нескромная.
На следующее утро в деревне говорили, что приезжие заплатили молодому парню из таверны, чтоб тот провел их к разрушенному замку высоко над Арджешем — замок назывался Пенари. Они собирались там переночевать. Я слышала, как отец говорил приятелю, будто они ищут замок князя Влада — он помнил, что дурак с цыганской рожей бывал здесь и прежде. «Дурака ничему не научишь», — сердито сказал отец. Я раньше не слыхала этого имени — князь Влад. В нашей деревне замок всегда называли Пенари или Арефу. Отец сказал, что парень, который взялся проводить их туда, позволил задешево задурить себе голову. Он поклялся, что его, отца, никакими деньгами не соблазнишь провести ночь в развалинах, где полным-полно злых духов. Он сказал, что чужаки, должно быть, ищут клад, и это тоже дурь, потому что все сокровища жившего там князя закопаны глубоко и на них наложено злое заклятье. А если бы их откопали и изгнали злых духов, тогда, сказал отец, ему тоже полагается доля, потому что клад отчасти принадлежит ему. Тут он заметил, что мы с сестрой слушаем, и прикусил язык.